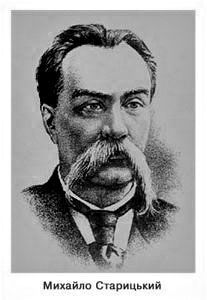— Да я что!.. — смирялась старушка. — Женить-то, конечно, тебя уже поздно…
— Да, — вздыхал капитан и сейчас же перебивал речь: — А вот позвольте вашему хлопцу, Михаилу, к нам, на запорожский обед?!
Мать и бабуня чаще уклонялись давать мне позволение на эти обеды, ссылаясь на мое слабое здоровье, — и объестся, мол, и простудится, — но я иногда успевал неотступными просьбами выканючить разрешение и с неописанным восторгом спешил с паном Гайдовским в его курень.
Это была та же крестьянская хата, немного больше размером и с ганком — навесом на двух колонках; с ганка дверь вела в обширные сени; слева от них была комора, а справа — простая кухня с варистой печью, а за ней уже помещалась и капитанская кошевая светлица.
Помещение кошевого представляло из себя небольшую комнату с дощатым полом и двумя довольно высокими окнами; в нем поражал меня особенно темный дубовый сволок, выделявшийся резко на побеленном потолке, испещренный крестами да изречениями из священного писания; кроме сволока, еще врезалась в память мне изразцовая печь, большая, широкая, с высоким гребнеобразным карнизом; блестящие изразцы ее пестрели невиданными цветами и неслыханными чудовищами. Вся мебель комнаты состояла из кровати, топчана, двух деревянных стульев, точильного станка, большого дубового стола с подвижными досками и винтами, должно быть, столярного верстака.
Над кроватью у капитана прибит был ковер, увешанный саблями, шашками, кинжалами и двумя ружьями, с бандурой в центре; там же у изголовья висел акварельный портрет какой-то красивой дивчины… Кто была она — я не знал, да и капитан не любил, когда я касался этого вопроса: "Годи, — бывало, оборвет, — ты ще мале!"
Противоположную стену украшали две литографированные картины: одна изображала турка, покупающего невольницу, а другая — какую-то распатланную деву с ребенком на руках и надписью: "Под вечер осенью ненастной"; над входной дверью висела тоже картина, писанная масляными красками, темная и протертая, изображавшая казака Мамая с чудовищными усами. В углу еще, высоко над кроватью, прибит был образ, уквитчанный весь сухими васильками и гвоздикой… Вот и все, что находилось в капитанском коше. Капитан меня очень любил, а я… я просто обожал "дядька-атамана", как он просил, чтоб я называл его. Да и как было не обожать!.. И кубари он мне точил, и бумажные змеи клеил, и луки делал, и стрелять учил, а то рассказывал про старину, про Запорожье, про набеги черкесов, про боевые схватки, — да так рассказывал хорошо, что даже няня, без которой меня редко пускали, увлекалась этими рассказами до слез.
Капитан постоянно говорил по-украински, — иной речи он не знал и не признавал, — считая, что и печерские святые говорили лишь по-запорожски, а себя он считал потомком запорожцев; он показывал мне портрет своего прадеда, настоящего запорожца, в запорожском уборе, а сам он служил в черноморцах, где так свежи были предания Сечи; оттуда-то он и занес в свой крохотный уголок обрывки дорогих для него воспоминаний. Со своими крестьянами он жил совершенно по-братски: вместе с ними обрабатывал свой клочок земли и делился поровну урожаем, вместе с ними трапезовал и проводил праздничные досуги, вместе с ними делил общие семейные радости и печали. С соседними помещиками пан Гайдовский почти не знался; они смотрели на него с некоторым высокомерием за его "мужичество", а он в них не нуждался; только и бывали у него изредка пан Моцок да пан Александр, мой дядя, которого капитан уважал и любил искренно.
А как пел хорошо дядько-атаман! Словно вижу его с бандурой в руках, с поникшей головой, с строгой печалью во взоре; высоко тогда поднималась у него грудь, голос дрожал, слова вырывались из тайников сердца, сопровождаемые тихим звоном бандуры, и наполняли светлицу стонущими, безотрадными звуками… У меня сердце ныло, и я начинал плакать.
— А что, дошкуля, моя любая дытынко? — улыбнется, бывало, он и перейдет сразу на веселые игривые песни.
Так-то мы жили в своем захолустье, тихо да мирно, как вдруг приехал в заброшенную усадьбу ее владелец и взбудоражил всю нашу жизнь.
Раз вечером поздней весной пришла на посиденье раньше обыкновенного баба Шептуха и объявила встревоженно, что в заброшенную усадьбу приехал новый пан, генерал, и собирается здесь жить, что она его мельком даже видала — с здоровенным носом и хромает на одну ногу. Весть эта взволновала бабуню и маму и взбудоражила все село: чувствовалось, что в патриархальную жизнь его вторгается какая-то разрушительная тревога.
Капитан, всполошенный тоже, не замедлил прийти к нам и сообщил некоторые подробности о прибывшем.
Новый сосед, оказывалось, был выслужившийся в Петербурге чиновник темного происхождения, какой-то статский советник Заколовский; он награбил на службе деньжищ и купил эту часть нашего села с публичных торгов.
— Я его мельком видел, — ворчал капитан, пуская из-под усов клубы табачного дыма, — пьяная харя, желтая, старая, с совиным носом, с бычачьими, навыкат, глазами, с костылем, — или армянин, или выкрест, — не дойди я до своего куреня!
Все село заволновалось, а особенно крестьяне купленной части: новый пан страшный, генерал какой-то… пойдут новые порядки, притеснения… было чего затревожиться!..
Через несколько дней прибежал к нам пан капитан, возбужденный до бешенства.
— Знаете ли вы, моя пани кохана, — сообщил он торопливо, — что за птица этот воряга-пришлец! Только что были у меня его люди… Собрал сегодня крестьян и сразу же начал кричать, что приехал их, хохлов, подструнить, чтоб они забыли прежние льготы, что он выварит из них олею, что за малейшее ослушание или лень будет порка, что он насадит еще побольше для них шелюги! А?! — потрясал капитан кулаками. — А бей его нечистая сила!.. Посмотрим, побачим!..
Бабуня, заслышав голос капитана, вышла поспешно в гостиную, заинтересованная новостью; она была бледнее обыкновенного и видимо волновалась. Вслед за ней появились и ключница, и молочница, и няня, и повар, и, кажется, даже вся дворня; лица у всех были встревожены и испуганы.
— Да как же так? Неужели он имеет право бить людей? — возмущалась моя мать.
— Кто ему позволит? Это подсусидки! — стукнул капитан энергично рукой.
— Что ты там все подсусидки да подсусидки?! — заворчала бабуня. — Крестьяне, а не подсусидки… а крестьян закон дозволяет наказывать, конечно, за дело и в меру… но в том-то и беда: коли этот окажется зверь зверем, да при деньжищах еще, так он своих людей обдерет, обездолит!
Из группы столпившейся у дверей дворни вырвался тяжелый вздох и смутил всех… Капитан стал дергать усы… Наступила минута молчания…
— Бедные они, горемычные, — заговорила стонущим голосом моя мать, — и заступиться-то за них некому!
— Как некому? — возразил капитан, побагровевши, как рак. — Да я первый не позволю ему над людом знущаться!.. Закон? Разве такой может быть закон, чтобы одну людыну давали другой на потеху, на муку? Вот пусть только этот шельма попробует, так я ему наложу по-кавказски! Еще генералом себя величает, суцига!.. Взяточник, чернильная душа — вот кто он!
— А ты тоже не очень горячись, чтобы не влопаться! — заметила серьезно бабуня. — За чужое жито — буде тебе быто! Ишь, уже сыве, а туда ж, словно юнак!
— Меня, моя шановна бабуню, он не испугает! — задорно возразил пан Гайдовский. — Пуганый уже, — потряс он с гордостью белый крестик, — а за свой народ я горло перерву!
Мать моя подошла к капитану и поцеловала его в голову. Эта ласка глубоко его тронула и смирила сразу его гнев. Он бросился целовать ей и бабуне руки. Среди дворни послышались сочувственные восклицания: "От пан так пан!" — и все несколько успокоились на той мысли, что — в случае чего — есть у них верный защитник.
Стал капитан хаживать к нам ежедневно, и наши вечерние беседы стали оживленнее, шумнее: центром всякого рода сообщений и обсуждений был, конечно, Заколовский. Выяснилось вскоре, что он действительно привез уйму денег, что горько пьет, что необыкновенно дерзок со всяким, а в пьяном виде бесчинствует, что с крестьянами крут и с каждым днем становится жесточе.
У Гайдовского также с каждым днем нарастала злость на этого, как он выражался, паршивого генерала, но он пока сдерживал ее, дожидаясь со стороны врага каких-либо буйных поступков и бесчинств; но когда к нему приходили генеральские крестьяне с жалобами, то капитан впадал в неистовство, советовал, чтобы они сами расправились с дьяволом, предлагал им противозаконные меры. Его советы доходили до пьяного Заколовского и поднимали в необузданной душе статского советника жажду мести. Крестьяне последнего, особенно после посещения станового и его внушений, покорились своей участи, струсили и стали волейневолей, за исключением лишь некоторых непокорных, во враждебное отношение к остальным селянам, а новый помещик растравлял их и поблажками, и лозой. Село в конце концов разделилось на два враждебных лагеря: во главе одного стоял капитан с преданным ему беззаветно кошем и с большинством сочувствовавших ему наших крестьян, а во главе другой стоял ненавистный, осатанелый Заколовский с туго набитым карманом и значительной группой своих крестьян, дисциплинированных страхом.