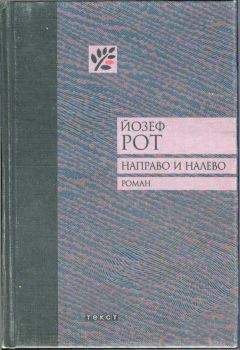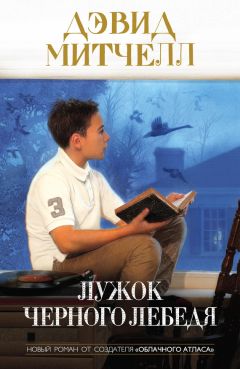— Да… да… — Он перевел близорукий взгляд на ребенка, жадно сосущего налитую грудь. — Да, да… — Видно, он был поглощен какими-то своими мыслями.
Очнувшись наконец, он рассеянно пожал руку темноликой соседке.
Все двинулись в соседнюю комнату, только священник нерешительно шагнул к своему больному, старому дьякону, желая помочь.
— Спасибо, я сам, — сварливо отозвался отец.
Уселись за стол. Каждый был отчужден друг от друга, замкнут в себе. Ужин был подан в столовой, просторной безобразной комнате, считавшейся парадной.
Хильда появилась последней, и сухопарый, нескладный священник поднялся со стула, здороваясь с ней. Семья эта внушала ему страх — и богатый старик отец, и его строптивые, необузданные дети. Но Хильду они уважали. Она одна хорошо училась и окончила колледж. Она считала, что ее обязанность — требовать от членов семьи достойного поведения. Ведь Роуботемы не чета обыкновенным, простым шахтерам. Разве чей-нибудь дом сравнится с Вудбайн-коттеджем, в который старик отец вложил душу! Она, Хильда, — учительница с дипломом колледжа; она полна решимости поддержать честь дома, невзирая на удары судьбы.
Ради торжественного случая она надела платье из зеленого муслина. Но она была слишком худа, из выреза платья жалко выступала тонкая шея. И все же священник поклонился ей чуть ли не благоговейно, и она с важным видом села к подносу. В дальнем конце стола сидел отец, большой, громоздкий, скрюченный болезнью. Рядом с ним младшая дочь качала раскапризничавшегося сына. Тощий священник неловко примостился между Хильдой и Бертой.
Стол был заставлен закусками — консервированные фрукты, консервированная лососина, ветчина, пирожные, печенье. Мисс Роуботем зорко следила, чтобы все шло как положено: она сознавала важность происходящего. Молодая мать, ради которой и было устроено торжество, ела с угрюмым и смущенным видом и хмуро улыбалась своему ребенку, улыбалась украдкой и против воли, когда он начинал бить по ее коленям своими ручками и ножками. Берта, властная и резкая, была поглощена ребенком. Сестру она презирала и обращалась с ней как с последней тварью, но ребенок был для нее светом в окошке. Мисс Роуботем угощала всех и поддерживала светскую беседу. Руки ее трепетали, она говорила нервно, волнуясь, как бы выстреливая слова короткими очередями. К концу ужина разговор иссяк. Старик вытер губы красным носовым платком и, уставив в пустоту голубые глаза, заговорил — с трудом, косноязычно, обращаясь к священнику:
— Ну вот, сударь… мы пригласили вас окрестить этого младенца, и вы пришли, благодарим покорно. Не мог я допустить, чтобы божий младенец остался некрещеным, а нести его в церковь они не желают… — Казалось, он ушел в свои мысли. — И вот мы, — вновь заговорил он, — и вот мы попросили вас прийти и окрестить его у нас. Нам нелегко, не думайте, нам очень трудно. Мать наша померла, я вон совсем сдал. Тяжело оставлять дочку, когда с ней приключилась такая беда, но, видно, так уж Господь судил, на все его воля, и роптать грех. Одно утешение: они никогда не будут нуждаться в куске хлеба, и мы благодарны за это Господу.
Пока он говорил, мисс Роуботем, единственный образованный человек в семье, сидела точно каменная, жестоко страдая. Ее переполняло столько разных чувств, что она растерялась. Она ощущала, как мучительно стыдно ее младшей сестре, и на миг в ней вспыхнула нежность к ребенку, желание защитить его и его мать; религиозность отца вызывала у нее недоумение; как ни горько было сознавать, на семью легло пятно, теперь люди вправе указывать на них пальцем. Но все в ней бунтовало против того, что говорил отец. Испытание оказалось поистине тяжким.
— Трудно вам, — качал священник своим мягким, бархатным голосом, медленно и отрешенно. — Да, сегодня вам тяжело, но исполнится срок, и Господь вас утешит. Ребенок родился на свет, возрадуемся же и возвеселимся. Если же кто-то из нас согрешил, очистим сердца наши перед Господом…
Он говорил, говорил, говорил. Молодая мать подняла хнычущего ребенка, и он уткнулся личиком в ее распущенные волосы. Она была оскорблена, хмурое лицо сердито горело. Но руки, с нежностью сжимающие тельце ребенка, были прекрасны. Сантименты, которые развели вокруг них, приводили ее в бешенство.
Мисс Берта поднялась и вышла в кухню, потом вернулась, держа в руках фарфоровую миску с водой, и поставила ее на стол среди чашек.
— Ну вот, можно приступать, — сказал отец, и священник начал службу.
Берта была крестная мать ребенка, старик отец и священник — крестные отцы. Старик сидел, потупив голову. Всех охватило волнение. Мисс Берта взяла ребенка и передала его священнику. Этот высокий некрасивый мужчина светился неземной любовью. Он никогда не соприкасался с жизнью, и женщины представлялись ему не существами из плоти и крови, а какими-то библейскими образами. Он спросил, какое имя выбрали ребенку, и старик с гордостью вскинул голову.
— Джозеф Уильям, в мою честь, — проговорил он срывающимся голосом.
— Нарекаю тебе имя Джозеф Уильям… — торжественно произнес странно глубокий, звучный голос священника. Ребенок притих. — Вознесем же молитву! — Теперь все почувствовали облегчение. Они опустились на колени возле своих стульев, все, кроме молодой матери, которая спрятала лицо, склонившись над ребенком. Нерешительно, как бы преодолевая усилие, священник начал читать молитву.
И в эту минуту на дорожке затопали тяжелые шаги, возле окна они умолкли. Подняв глаза, молодая мать увидела своего брата — весь черный под слоем угольной пыли, он глядел на них через стекло с усмешкой. Его красный рот был глумливо искривлен; над почерневшим лбом горели белокурые волосы. Он поймал взгляд сестры и ухмыльнулся. Потом черное лицо исчезло. Брат вошел в кухню. Девушка с ребенком сидела не шевелясь, но в сердце ее кипела злоба. Теперь и она ненавидела молящегося священника, ненавидела глупый обряд, из-за которого все так расчувствовались, люто ненавидела своего брата. И в этой злобе, скованная бессилием, она сидела и слушала священника.
Вдруг начал молиться отец. Услышав знакомый громкий голос, тянущий бессвязные слова, она замкнулась в себе, словно бы даже оглохла. Соседи говорили, что их отец впал в детство. Она тоже считала отца слабоумным и чуралась его.
— Господи, услышь нашу мольбу, не оставь этого младенца, — взывал старик. — Ибо нет у него отца. Но что земной отец в сравнении с тобою, Господи? Твой это сын, твое дитя. Разве есть у человека иной отец, кроме тебя, Господи? Когда человек называет себя отцом, то истинно говорю: он заблуждается. Ибо отец — это ты, Господи. Избавь же нас от гордыни, чтобы не считали мы своих детей своими. Нет у этого ребенка отца на земле, ты — его отец, Господи. Пусть он растет под твоим покровительством, Господи. Я всегда стоял между тобой и моими детьми, я покорил их моей воле; да, я стоял между моими детьми и тобой, и я отвратил их от тебя, потому что они были мои. И они выросли искривленные, в том моя вина. Господи, кто их отец, как не ты? А я встал между вами, и из-за меня они точно растения под камнем. А если бы не я, Господи, они могли бы быть как деревья под солнцем. Да, Господи, я признаюсь: я причинил им зло. Лучше бы им совсем не знать отца. Ни один человек не может быть отцом, только ты, Господи. Без тебя они не могут вырасти, а я им только мешал. Вознеси же их, Господи, исправь зло, которое я им причинил. И пусть этот младенец растет, как ива, посаженная при потоках вод, пусть он не ведает иного отца, кроме тебя, Господи. Как бы я желал, чтобы и мои дети были, как он, чтобы и у них не было иного отца, кроме тебя. Ибо я был как мельничный жернов у них на шее, и вот они выросли и в злобе своей проклинают меня. Но пощади меня, Господи, возвысь их души…
Коленопреклоненный священник в замешательстве слушал исповедь отца, но не понимал его, ему были неведомы отцовские чувства. Одна только мисс Роуботем кое-что поняла. Сердце ее судорожно забилось, по груди разлилась боль. Младшие сестры стояли на коленях отчужденные, ожесточившиеся, глухие. Берта думала о ребенке, молодая мать — об отце своего ребенка, которого она ненавидела. В чулане раздался грохот. Младший сын шумел нарочно, наливая себе воды помыться, и в бешенстве бормотал:
— Старый косноязычный дурак, совсем из ума выжил!
И все время, что отец молился, в душе сына клокотала ярость. На столе лежал бумажный пакет. Он взял его в руки и прочел: «Джон Берримен. Хлеб, булки, печенье». Лицо его искривилось в усмешке. Отец ребенка был подручным пекаря у Берримена. В столовой отец все молился. Лори Роуботем собрал края пакета, надул его и хлопнул по пакету кулаком. Раздался оглушительный треск. Лори усмехнулся. Но его жег стыд, и было страшно гнева отца. Отец оборвал молитву, все поднялись с колен. Молодая мать вошла в чулан.
— Что ты делаешь, дурак?
Молоденький шахтер взял ребенка за подбородок и запел: