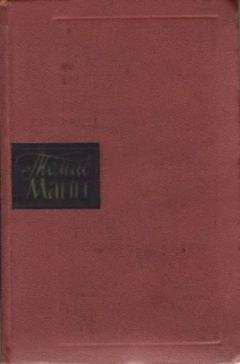Короче, когда пробило половину двенадцатого и мы поднялись, чтобы одеться, я был уже наполовину обессилен волнением, и когда мы одевались в кабине и позже, когда мы уже покидали купальни, — сердце мое колотилось, словно это мне и никому другому на труднейших условиях предстояло драться при свидетелях с Яппе или До Эскобаром.
Отчетливо припоминается мне, как мы спустились втроем по узкому деревянному мосту, который вел наискосок от пляжа к купальням. Само собой разумеется, мы попрыгали на нем, чтобы по возможности его раскачать и взлететь вверх, отталкиваясь от него, как от трамплина. Но, сойдя с моста, мы не пошли дальше вдоль пляжа по деревянному настилу, который вел мимо павильонов и плетеных кабинок, а взяли курс на сушу, держась по направлению к кургаузу или чуть левее. В дюнах палило солнце, исторгая сухой жар из почвы, скудно поросшей волчцом и репейником, которые кололи нам ноги. В тишине было слышно только беспрерывное жужжание синих с металлическим отливом мух, которые, казалось, недвижно висят в тяжелом зное, затем внезапно перелетают в другое место, чтобы там снова затеять свою резкую и однообразную песнь. Ощущение прохлады после купания давно прошло. Время от времени то Браттштрем, то я поднимали головные уборы: он — свою шведку, моряцкую шапку с коленкоровым козырьком, я — круглую гельголандскую вязаную, так называемую Tam-o-shanter, чтобы стереть пот со лба. Джонни страдал от жары значительно меньше благодаря своей худобе и особенно потому, что его изысканная одежда лучше подходила для летнего дня. В своем легком и удобном матросском костюме из полосатой ткани, оставлявшем оголенными ноги и шею, в прикрывавшей его хорошенькую голову синей шапочке с лентами, снабженной английской надписью, в изящных, с низкими каблуками белых кожаных полуботинках на длинных узких ногах, он шел между Браттштремом и мною размашистым, все убыстряющимся шагом, слегка сгибая колени, и пел с очаровательным акцентом уличную песенку «Рыбачка молодая», которая в то время была в моде: пел ее в неприличном варианте, придуманном тогдашней не по возрасту шустрой молодежью. В этом он сказался весь: невзирая на внешнюю детскость, он уже во многом был осведомлен и безо всякого жеманства постоянно рассуждал на сей счет. Внезапно он с лицемерной миной произнес: «Фу, как не стыдно петь такие скверные песни!» — делая вид, будто это мы столь непристойно обращались к рыбачке молодой.
Мне же вовсе было не до песен, поскольку мы уже подходили к роковому месту встречи. Жесткая, росшая на дюнах трава сменилась колюшкиком, попадавшимся на песке, а затем мы вышли на тощий луг: это и была Светлая поляна, названная так по желтому круглому маяку, который возвышался на некотором расстоянии слева, — до цели мы добрались незаметно и быстро.
Этот уютный и мирный уголок, почти никогда никем не посещавшийся, от посторонних взглядов отгораживали ивовые кусты. На открытой площадке среди них живым барьером расположились по кругу, сидя и лежа, молодые люди, почти все старше нас и из разных слоев общества. Видимо, мы подошли последними. Ждали еще только балетмейстера Кнаака, который должен был присутствовать на поединке в качестве судьи и беспристрастного лица. Яппе и До Эскобар были уже на месте — я их тотчас же увидел. Они сидели в кругу на большом расстоянии друг от друга, делая вид, что не замечают один другого. Молча кивнув нескольким знакомым, мы тоже опустились на теплую землю, поджав под себя ноги.
Многие курили. Яппе и До Эскобар тоже держали в углах рта сигареты, щурясь от дыма и закрывая один глаз; было ясно, что они сознают, как это шикарно вот так сидеть и с полным пренебрежением курить перед самой дракой. Оба были одеты, как взрослые, но До Эскобар — заметно элегантнее, чем Яппе. На нем были очень остроносые желтые ботинки и светло-серый летний костюм, розовая рубашка с манжетами, пестрый шелковый галстук и круглая соломенная шляпа с узкими полями, сдвинутая на затылок таким образом, чтобы выставить на всеобщее обозрение плотный и крепкий черный, блестящий, напомаженный кок, в который он сбил свои расчесанные на косой пробор волосы. Порой он поднимал и тряс правую руку, чтобы убрать в рукав серебряный браслет. Яппе выглядел гораздо невзрачней. Его ноги торчали из узких, облегающих брюк, более светлых, чем пиджак и жилет; брюки были прикреплены штрипками к черным начищенным ботинкам, а клетчатую спортивную кепку, прикрывающую его светлые курчавые волосы, в противоположность До Эскобару, он низко надвинул на лоб. Он сидел, охватив руками колени, отчего становилось заметным, во-первых, то, что он носит пристегивающиеся крахмальные манжеты, и, во-вторых, то, что ногти на его сплетенных пальцах либо коротко острижены, либо он, предаваясь пороку, их обгрызает. Между прочим, несмотря на бойкие и самоуверенные позы курильщиков, настроение в кругу было серьезное, даже скованное и преимущественно молчаливое. Единственный, кто его нарушал, был До Эскобар; он, выпуская дым через нос, непрерывно громко и хрипло болтал с окружающими, слегка раскатывая «р». Его трескотня отталкивала меня, и, несмотря на обгрызанные ногти Яппе, я был склонен стать на его сторону; он изредка бросал через плечо какое-нибудь слово соседям, а в остальном с полным внешним спокойствием поглядывал на дымок своей сигареты.
Тут пришел господин Кнаак; словно сейчас вижу я, как он идет окрыленным шагом со стороны кургауза в своем утреннем туалете из синеватой фланели в полоску и, приподняв соломенную шляпу, останавливается за пределами нашего круга. Не думаю, что он пришел охотно, не сомневаюсь даже, что он просто покорился неприятной необходимости, дав согласие присутствовать при драке, к этому его обязывало положение, его сложные отношения с бравой и весьма воинственно настроенной молодежью. Был он смуглый, красивый и жирный мужчина (особенно жирный в бедрах), зимами он давал уроки танцев и хороших манер в закрытых семейных кружках и на общедоступных курсах при казино, а летом исполнял должность устроителя празднеств и курортного комиссара при кургаузе в Травемюнде. Кокетливыми взглядами, плавной раскачивающейся походкой, при которой он сперва старательно ставил вывернутые наружу носки ног, а затем остальную часть ступни, самодовольной и ученой манерой выражаться, всей театральной уверенностью своего облика, неслыханной, демонстративной изысканностью манер, он вызывал восторг женского пола, в то время как мужчины и особенно критически настроенные подростки его осуждали. Я часто задумывался над положением Франсуа Кнаака и находил его странным и фантастическим. Выходец из низших слоев, он, со своим культом аристократически-светских манер, попросту висел между небом и землей и, не принадлежа к обществу, оплачивался им как блюститель и наставник его нравственных идеалов. Яппе и До Эскобар тоже были его учениками, — не из частного кружка, как Джонни, Браттштрем и я, а с открытых курсов при казино; именно там существо господина Кнаака и его образ жизни подвергались жесткой оценке со стороны молодых людей (мы, в частном кружке, были снисходительнее). Разве можно назвать мужчиной человека, который обучает тонкому обхождению с маленькими девочками, человека, о котором ходил никем не опровергнутый слух, будто он носит корсет, человека, который кончиками пальцев хватал полы своего сюртука и делал реверансы, откалывал коленца и внезапно высоко подпрыгивал, быстро перебирая в воздухе ножками и, пружиня, плюхался на паркет? Таково было подозрение, витавшее над персоной и всем существованием господина Кнаака, усугублявшееся его поразительной самоуверенностью и высокомерием. Он был значительно старше нас всех, утверждали, будто у него (даже смешно представить!) в Гамбурге были жена и дети. Лишь эта разница в возрасте, да еще то, что с ним встречались только в танцевальном зале, ограждала Кнаака от разоблачения и изобличения. Был ли он гимнастом? Занимался ли когда-нибудь спортом? Был ли храбр? Обладал ли он силой? Короче, можно ли причислить его к достопочтенным людям? Ему не доводилось попадать в положение, когда он в противовес своему салонному искусству, мог бы проявить более солидные качества и попасть в разряд респектабельных людей. Нашлись и такие мальчики, которые всюду и без обиняков называли его обезьяной и трусом. Он, вероятно, знал об этом, потому и пришел сегодня, чтобы выказать интерес к настоящей драке и держаться с молодыми людьми как товарищ, хотя ему, как курортному комиссару, не полагалось бы, собственно, покровительствовать этому незаконному поединку. По-моему, он в этой роли чувствовал себя неважно и ясно сознавал, что вступил на скользкий путь. Некоторые холодно прощупывали его взглядом, а сам он беспокойно озирался, высматривая, не идет ли кто-нибудь еще.
Он вежливо извинился за опоздание. Его задержало, объяснил он, совещание с дирекцией кургауза касательно субботнего бала.