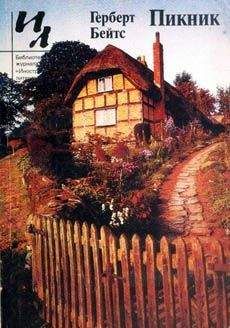К счастью, однако, взгляд его был устремлен в окно, на дождь.
– Как будто бы унимается наконец, – объявил он. – А когда так, я вам смогу перед тем, как вы уедете, показать вид снаружи. Вы обязательно должны посмотреть на вид снаружи, миссис Корбет. Упоительное запустенье. До того упоительное, что прямо-таки наводит на мысль о Строберри-Хилле [1]. Понимаете?
Она не понимала и снова перевела взгляд на свое коричневое платье, обтрепанное по краям.
Вскоре ливень начал стихать и кончился, только с могучих буков, осеняющих дом, еще продолжало капать. Соус для croflte aux champignons почти поспел; Лафарж обмакнул в него мизинец и сосредоточенно облизал, глядя на деревья, роняющие капли летнего дождя.
– В основном, сам его собираюсь красить, – сказал он. – Так интересней, вы не находите? Больше простора творчеству. Нам чрезвычайно, по-моему, недостает в жизни творческого подхода, а по-вашему? Глупо все самое увлекательное перекладывать на челядь и прислугу, вы не находите?
Поливая соусом грибы, он взглянул на нее с подкупающей вопросительной улыбкой, которая не требовала ответа.
– Итак, миссис Корбет, идем наружу. Вы должны посмотреть на вид снаружи.
Машинально она потянула на себя накидку.
– Не понимаю, отчего вам жаль расстаться с этой несчастной накидкой, миссис Корбет, – сказал он. – Я лично в тот самый день, как кончилась война, торжественно устроил всей этой рухляди грандиозное сожжение.
В засыпанном золой саду, где из кустистых дебрей травы вперемешку с крапивой, перевитых плотными белыми граммофончиками повилики, поднимались многолетние одичалые розы, он показал ей южный фасад дома с заржавелыми козырьками над окнами и изящными железными балкончиками, оплетенными ежевикой и шиповником.
– Сейчас, конечно, на штукатурку нельзя смотреть без содрогания, – сказал он, – но из-под моих рук она выйдет гладкой и розовой, как кожа младенца. Того оттенка, который часто видишь в Средиземноморье. Вы понимаете меня?
Всю западную стену укрыли без остатка ненасытные глянцевые плети плюща, ниспадающие с крыши пунцово-зеленой завесой, осыпанной дождем.
– Плющ уберут на этой неделе, – сказал он. – На плющ не обращайте внимания. – Он помахал в воздухе пухлыми, мучнисто-белыми руками, сжимая и разжимая пальцы. – Вообразите здесь розу. Черную розу. С огромными цветами глубокого красно-черного тона. Какие носят на шляпе. Знаете этот сорт?
Опять она поняла, что ответа ему не требуется.
– В летний день, – продолжал он, – цветы будут рдеть на фоне стены, как бокалы темно-красного вина на розовой скатерти. Согласитесь, разве не полный восторг?
Оглушенная, она смотрела на спутанные каскады плюща, на полчища рослого осота, больше обычного теряясь в поисках нужного слова. Торопливо соображая, как бы сказать, что ей пора ехать, она услышала:
– Что-то еще мне вам надо было сказать, миссис Корбет, только сейчас не вспомню. Что-то страшно существенное. В высшей степени.
Внезапно на мокрый бурьян, на заржавелые козырьки, на лягушачьи пятна Клариной накидки брызнуло солнце, словно бы принеся и Лафаржу мгновенное озаренье.
– Ах да – сердце, – сказал он. – Вот что.
– Сердце?
– У нас что сегодня? Вторник. В четверг я бы вас просил привезти мне лучшее из ваших сердец.
– Моих сердец?
Он рассмеялся, и опять необидно.
– Телячье, – сказал он.
– А-а! Ну понятно.
– Известно ли вам, что сердце на вкус совсем как гусятина? Как гусиная кожа? – Он запнулся, снова рассмеялся и по-свойски тронул ее за руку. – Нет-нет. Так не годится. Это уж чересчур. Так не скажешь. Нельзя сказать – сердце как гусиная кожа. Вы согласны?
Ветки буков всколыхнул ветерок, стряхивая по длинным солнечным желобам бисер дождя.
– Подать его под клюквенным соусом, – сказал он, – да к нему горошка молоденького да молодой картошечки – ручаюсь, никому не отличить.
Они уже дошли опять до кухонного крыльца, где она оставила мужнину корзину.
– Побольше нужно фантазии, вот и все, – говорил он. – На сердце смотрят с пренебрежением, а это царский продукт, уверяю вас, если знаешь, как с ним обращаться.
– Мне, наверное, правда пора, мистер Лафарж, – сказала она, – а то ничего не успею. Вам сердце понадобится прямо с утра?
– Нет, можно и днем. Пойдет на вечер, к ужину для двоих. Будет всего один приятель да я. А вообще я собираюсь без конца принимать гостей. Без конца – первое время скромно, прямо на кухне, в свинушнике. Потом, когда дом будет готов, – на широкую ногу, закачу грандиозное новоселье, пир на весь мир.
Она взяла корзину, машинально поправила на плечах накидку и начала было:
– Хорошо, сэр. Днем привезу…
– Очень мило с вашей стороны, миссис Корбет. Будьте здоровы. Ужасно мило. Давайте только без «сэров» – мы же теперь друзья. Просто Лафарж.
– До свиданья, мистер Лафарж.
Она была на полпути к машине, когда он крикнул вдогонку:
– Да, миссис Корбет! Если вы позвоните и никто не отвеет, то я, скорей всего, вожусь с ремонтом. – Он махнул пухлыми мучнисто-белыми руками в направлении плюща, козырьков, заржавелых балкончиков. – Вон там – вы знаете.
В четверг, когда она, на сей раз без накидки, вновь подъехала к дому во второй половине дня, стояла духота; в воздухе парило. Под буками, по меловым обнажениям на опушках желтым пламенем пылал на солнце зверобой. В вышине над долиной, далекие, легкие, безмятежно повисли редкие белые облака.
– Плющ срубили, а в нем – тысяча пустых птичьих гнезд, – крикнул с одного из балкончиков Лафарж. – Форменное светопреставленье.
В темно-синих свободных брюках и желтой открытой рубашке, с синим шелковым шарфом на шее, в белой панаме, он помахал ей малярной кистью, розовой на конце. Сзади, уже не обремененная плющом, подсыхала на солнышке блекло-розовая, как промокашка, стена.
– Я положила сердце на кухне, – сказала она.
На это не последовало реакции – как, впрочем, и на отсутствие накидки.
– Штукатурка оказалась, как ни странно, в очень приличном состоянии, – сказал он. – А как вам цвет? Вы его видите первой. Не темновато?
– По-моему, очень хорошо.
– Говорите откровенно, миссис Корбет. Будьте предельно откровенны и придирчивы, не стесняйтесь. Выскажите напрямик ваше мнение. Не чересчур темно?
– Может быть, самую малость.
– С другой стороны, необходимо вообразить себе на этом фоне розу. Вы не знаете, разводит кто-нибудь эти чудесные черно-красные розы?
Она стояла задрав к нему голову.
– Как будто нет.
– Жалко, – сказал он, – будь у нас роза, можно было бы посмотреть, каково впечатление… Однако душа просит чаю. Не хотите ли выпить чашечку?
На кухне он занимался приготовлением чая с неторопливой ритуальной скрупулезностью.
– Китайский способ, – приговаривал он. – Сначала совсем чуть-чуть воды. Потом подождать минуту. Подлить еще водички. Снова подождать. И так далее. В общей сложности шесть минут. В этом весь секрет – добавлять воду по каплям и с перерывами. Отведайте-ка вот это. Сладкий пирожок собственного изобретения, на кислом молоке.
Она прихлебывала чай, жевала пирог и глядела на сырое сердце, которое положила раньше в миску на кухонном столе.
– Страшно мило, что вы остались поговорить со мной, миссис Корбет. Я со вторника, когда вы приезжали, еще ни единым словом ни с кем не перемолвился.
Тогда, впервые, она решилась задать ему вопрос, который ее волновал:
– Вы здесь совсем один живете?
– Абсолютно – но когда приведу дом в порядок, буду толпами принимать у себя друзей. Косяками.
– Великоват этот дом для одного.
– А пойдемте посмотрим комнаты? – сказал он. – Кой-какие из них я отделал, до того как въезжать. Спальню, например. Давайте сходим наверх.
Наверху длинным – до полу – открытым окном под козырьком смотрела в долину просторная комната с обоями сизого цвета и темно-зеленым ковром.
Он вышел на балкон, вдохновенно раскинув руки.
– Здесь у меня будут крупные цветы. Ворсистые, толстые. Петуньи. Расхристанные. Бегонии, фуксии – в таком духе. Безудержное изобилие.
Он оглянулся на нее.
– Жаль, нет у нас этой большой черной розы.
– Я прежде носила шляпу с такой розой, – сказала она, – теперь, правда, больше не ношу.
– Как мило. – Он шагнул назад в комнату, и она вдруг во второй раз остро ощутила нестерпимую затрапезность своего шерстяного коричневого платья.
Стыдясь, она опять сложила руки на животе.
– – Думаю, мне пора ехать, мистер Лафарж. Будет что-нибудь нужно на конец недели?
– Еще не знаю, – сказал он. – Я позвоню.
Он на мгновение задержался в проеме окна, глядя ей прямо в лицо с удивленным и пристальным вниманием.
– Миссис Корбет, я наблюдал только что поразительную вещь. Когда стоял на лестнице и у нас шел разговор о розе. Вы смотрели на меня снизу, и впечатление было такое, будто на вашем лице не стало глаз, до того они у вас темные. Темнее глаз я не встречал. Вам кто-нибудь говорил об этом?