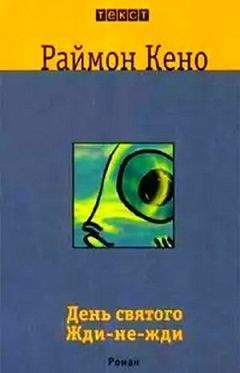— Это мы оченно хорошо знаем. Скоро она клыки покажет, ведьма. Затем и торопимся. Страшно, говоришь, ведьмой оно быть?
Толоку под озимь запахали уже господскими лошадьми, плугами и боронами. А за подушки, что поразобрали, заплатили по пять карбованцев, как полагается. Барышня-курсистка востроглазая деньги взяла (губа не дура!), а только поклялась, что мужики в тюрьме сгниют, когда придёт контрыволюция, а то и просто все будут перевешаны.
— Мне-то всё равно… — вертелась она, кусая губы и бледнея. — А вам будет худо.
— Бог не выдаст, гражданка, — ухмыляются бородачи, — свинья контрыволюция ваша не съест.
Но всё же в суровых страдных глазах мутный страх.
У страха глаза велики. Раскумекали мужики, что бесёнок-барышня просто стращала. Пришли к ней в усадьбу.
— Что надо? — выскакивает на балкон Зинка.
— А то… го-го!.. — гогочут старики. — А где ж ваша контрыволюция? Испугалась, лярва? Мы, чай, не анисимовцы… Живыми в руки не дадимся… Сами погибнем, а ей голову открутим.
— Придёт ещё! — кричит Зинка.
— Го-го!.. Гы-гы-гы!..
— Вы думаете, я зря говорю? — выхватывает вдруг барышня газету. — Нате, читайте!
В газетине, глазам своим не веря, читают мужики, будто и впрямь контрыволюция поднялась. А вызвали её будто те же мужики — грабежами да бесшабашеством своим. Но тут же селяки и спохватываются: да ведь это же богатеи — антихристово отродье — вызвали её. Кто же поверит, что беднота выкликала на себя на свою же голову душегубку-контрыволюцию, ведьму заморскую?
— Это всё антихристовы да ведьмины штуки, — бросают бородачи газетину. — Нас не провести. Ваши это проделки, антихристово отродье! Признавайся — ты?
— Что? — бесясь и бледнея, путается уже Зинка. — Какое это ещё антихристово отродье? Сволочи!
— А такое… У кого отца настоящего не было — те и есть антихристово отродье. У вас был отец, барышня? Нет? Вы помните его? Слыхали про него? А недавний подкидыш — у него отец есть? Это не ваш ли сынок будет?
Побесилась, похохотала, поплакала барышня, а всё же смекнула, куда загнули мужики.
Приёмыш она, это все знают. Но ведь и отец у неё есть! Какое же до этого кому дело? Озверели мужики.
В пику мужичью вытребовала Зинка из города какого-то старого калеку. Да и пустила слух (а может, и правда это была), будто калека — её родной отец.
И чтобы ужалобить мужиков и хлеба у них на живую душу раздобыть — отвела отца кулаку на харч, будто бы из милости, а вовсе платила тайком что-то из последних крох кулаку за калеку. И всё это — для отвода глаз, будто она законного, а не антихристова роду.
Ухмыляются в бороды пахари, — знаем, мол, какой это отец, глаза чтоб отвести да контрыволюцией нагрянуть врасплох.
А всё же видит мир — непорядок. Зря обижают калеку. Старичишка ледящий, руки и ноги отнялись. Уходы за ним нужны, а какие уходы у кулака.
— Ты деньги от Зинки получаешь за калеку? — приступили комитетчики.
— Я?! С калеки?! — ерепенился кулак.
— Ты. А кормить калеку чем кормишь? Зуботычинами?
— Это не ваше дело! Возьмите его себе на шею! Я деньги за другое получаю с барышни, прежние долги — барыня старуха брала за аренду. А калеку кормлю даром, опять же говорю.
— Мы его берём миром на свой харч, а ты шашни водить с панами да деньги за калеку брать — не смей!
— Я по закону. Хотите убить? Так ежели контрыволюция… — узнаете, где раки зимуют.
— А вот пока она, ведьма, не взяла силы ещё — надо действовать! Надо трясти вас, кулаков! — веяли гривами пахари. Панское добро разделили дочиста, кулаку нахлобучку дали, а калеку взяли миром на свой харч.
— Братцы! Спасибо! — шамкает старик-калека. — Революция — в мою польжу. Имение-то даром оттягали у меня. Моё оно было. А теперь вот и сами боятся мужиков — за калек цепляются, чтоб самим живыми остаться. Зинка-то хитра. Ну да это мне ж к лучшему. Не дай Бог, контрыволюция придёт — пропаду пропадом!
— Не бойся, гражданин, — успокаивают его мужики, — пускай только покажется ведьма — на месте уложим.
А Зинка рвала и метала. Кляла мужиков на чём свет стоит. Грозила каторгой, казацкими нагайками. Сама собиралась палить в мужиков из пистолета — ничто не помогало: мужики давно уже пахали землю на панских же лошадях, волах и плугах, давно уже побили и те зеркала с стульями, что вытащены были из усадьбы и разделены, как будто это было Бог знает когда.
Теперь вот и сено зачали косить.
А сено — корм любимой коровы помещицы. Сама она одряхлела, в постель слегла, Зинка за неё орудует. Расстаться с коровой — с жизнью расстаться. Мудрует Зинка.
Открыла вдруг хохотушка, будто волосатый тот молодой барин, что в Турайку зимою наезжал ораторствовать — её муж. А теперь он комиссаром в городе выбран. Вот она и поедет к нему, чтоб добиться управы на турайцев. Муж — оратор и деятель революции, с Лениным приятель. То-то зададут турайцам жару.
Но турайцам от этого Зинкиного выверта ни холодно, ни жарко. Только когда отъезжала в город с ребёнком-подкидышем Зинка, пригрозив через мужа-комиссара прислать в Турайку конную милицию, отряд карательный, комиссию и ещё что-то — мужики сразу как-то догадались, что ведь она-то, Зинка-бесёнок, и есть эта самая контрыволюция, колдунья… Духу ещё не набралась, а теперь поехала за силою своею колдовскою. Поймать бы её, ведьму.
Да поздно было уже её ловить.
Как-то в знойный, синелетний день убирали турайцы у реки сухие скошенные, пахучие поёмы-луга. И вдруг видят: по полевой пыльной дороге из-за рощи идёт молодайка, стройная, загорелая, босая, в простом ситцевом платьице.
На руках у неё в кружевных пелёнках ребёночек.
— Братцы! Контрыволюция идёт! — вспенилась толпа. — Зинка-бесёнок, ведьма! Колдовского духу набралась.
Шумит мир, ощетинившись вилами и косами, катится диким шквалом.
— Отхватывай её, ведьму! Вали напрямик, догоняй!
— Косой её, косой по башке!
И вот толпа, вдруг остановившись, как вкопанная, замолкает, тупит взгляды. Ведьма-то дрожит вся, как осиновый лист. Глядит в страхе на рассвирепевшую громаду. Онемела от страха, не дышит.
Кто-то хрипло из задних рядов рявкает:
— Губить нас пришла, стерва? Кровь нашу пить?
Но и осёкся. Молодайка-барышня, дрожа, плача и прижимая ребёнка, шепчет в трепете, безнадёжно и глухо:
— Куда ж мне теперь? Я сирота… И ещё ребёнок… Я не виновата!.. Теперь хоть убивайте — мне всё равно… Чем я буду жить. И моя мать-старуха? Отвернулись от меня… все… муж… что приезжал сюда… бросил… Обобрал и… бросил… мать прокляла, выгнала. Я не виновата. Примите меня к себе, землячки мои… Я буду работать с вами. Или… или убейте меня тут же… мне всё равно.
Дрогает громада. Гудит уже в один голос:
— Зачем убивать? Мы не звери какие.
А в жёлтом зное льётся раскатистый весёлый грохот:
— Ну и дьяволы эти наши бабы! Наврут с три короба, а ты разбирай, верь! Какая ж, скажем, Зинка — контрыволюция? В чём душа держится. Куды ей губить нашего брата — она сама на ладан дышит.
А Зина дрожит — не то от радости, не то от жути.
— Вот… ребёночек… — глотает она солёные слёзы. — Родненькие мои… ребёночек-то — мой!
Мальчик уакает, барахтается в кружевных пеленах.
— Вот грех-то! — сокрушаются бородачи. — Мы знаем, сердешная, что твой. Да глупы бабы шалтают разные глупости, будто антихрист это народился.
И бородачи, улыбаясь, тянутся к мальчику корузными руками.
— Красавчик-то какой, чистый ангелок!
— А оратель-то твой, зныть, махни-дралы?.. — сокрушались бабы. — Ах, грехи… Сказано, оратель, ну, добра не жди.
Кто-то из баб всхлипывает.
В жёлтом зное голубой ветер лениво колеблет ароматы сухих цветов и трав, перешёптывается с надомутным камышом, будто говорит: "Какое мне дело, люди, до ваших горестей, смеха и слёз?”
1920 г.