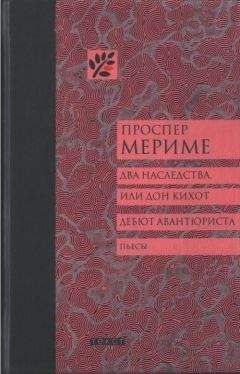— Так вы знаете ботанику?
— Довольно плохо, — ответил он, — но знаний моих достает, дабы указывать местным крестьянам полезные для них лекарственные травы, а главное, надо сознаться, дабы скрашивать мои одинокие прогулки.
Я тотчас же подумала, что было бы очень занятно собирать, бродя по окрестностям, красивые цветы, засушивать их и аккуратно раскладывать в «моем старом Плутархе для брыжей»[6].
— Дайте мне несколько уроков ботаники, — попросила я.
Он предложил дождаться весны, так как в это противное время года не бывает цветов.
— Но у вас есть засушенные цветы, я видела их как-то у вас.
Помнится, я писала тебе о тщательно хранимом букете. Посмотрела бы ты на его лицо при этом намеке!.. Бедняга! Я тут же раскаялась в своей бестактности. И, чтобы загладить ее, поспешила сказать, что у него, конечно, имеется коллекция засушенных растений. Называется это гербарием. Он тотчас же подтвердил мою догадку. На следующий день он принес мне в пакете из серой бумаги множество прехорошеньких цветов, каждый из которых был снабжен особым ярлычком. Уроки ботаники начались, и я сразу же сделала поразительные успехи. Но я и представить себе не могла всей безнравственности этой самой ботаники и трудности первоначальных объяснений, в особенности для священника. Да будет тебе известно, дорогая, что растения вступают в брак точно так же, как и мы, грешные, только у большинства из них бывает множество мужей. Такие растения называются «фанерогамами», если только я не переврала этого странного греческого слова, которое означает «вступившие в публичный брак, в муниципалитете». Имеются также «криптогамы», иначе говоря, тайные сожительства. Грибы, которые ты ешь, живут в тайном браке.
Все это довольно непристойно, но аббат неплохо выходит из положения, гораздо лучше, чем я, которая имела глупость расхохотаться раза три в наиболее щекотливых местах. Но теперь я стала осторожнее и больше не задаю ему вопросов.
Та же к той же Нуармутье... февраля 1845 г.
Тебе не терпится узнать историю этого столь бережно хранимого букета, но, право же, я не осмеливаюсь расспрашивать о нем. Вернее всего, никакой истории попросту нет, а если б она и была, ему вряд ли захочется рассказывать ее. А я убеждена...
Полно, не стану притворяться. Ты прекрасно знаешь, что от тебя у меня не бывает секретов. Узнала я эту историю и изложу ее тебе в двух словах. Все очень просто.
— Как это случилось, господин аббат, — спросила я однажды, — что с вашим умом, с вашим образованием вы согласились стать кюре в этом захолустье?
— Гораздо легче, — ответил он с грустной улыбкой, — быть пастырем обездоленных крестьян, чем пастырем горожан. Каждый выбирает себе дело по плечу.
— Именно поэтому, — заметила я, — вам следовало бы получить приход гораздо лучше здешнего.
— Я слышал, — продолжал он, — что его преосвященство, епископ Н-ский, который доводится вам дядюшкой, соизволил обратить на меня свои взоры при назначении священника в приход Святой Марии, лучший во всей епархии. Моя престарелая тетушка, единственная оставшаяся у меня родственница, которая живет в Н., полагает, что для меня это было бы весьма завидным положением. Но мне хорошо здесь, и я с удовлетворением узнал, что его преосвященство остановил свой выбор на другом. Разве я не счастлив в Нуармутье? Что мне еще надобно? И если я приношу хоть небольшую пользу своим прихожанам, значит, место мое именно здесь. К тому же город напоминает мне...
Он умолк, взгляд его был угрюм, рассеян.
— Но мы не занимаемся, — внезапно сказал он, — а наша ботаника?
Я и думать забыла о старом сене, разбросанном по столу, и продолжала задавать вопросы:
— Когда вы приняли священство?
— Девять лет тому назад.
— Девять лет?.. Но, по-моему, в ту пору вы уже достигли возраста, когда мужчины имеют обычно какую-нибудь профессию. Признаться, мне всегда казалось, что вы стали священником не по юношескому призванию.
— Увы, нет, — молвил он смущенно. — Но если мое призвание и было поздним, причинами... причиной тому...
Он смешался и окончательно умолк. Набравшись смелости, я сказала:
— Готова побиться об заклад, что немалую роль сыграл в вашем решении некий виденный мною букет.
Едва у меня вырвались эти слова, как я прикусила язычок, пожалев о своей бесцеремонности, но уже было поздно.
— Да, ваша правда, сударыня. Я обо всем расскажу вам, но не сегодня, не сейчас... в другой раз. Скоро позвонят к вечерне.
И он ушел, не дожидаясь первого удара колокола.
Я приготовилась услышать какую-нибудь душераздирающую историю. Он пришел на следующий день и сам возобновил прерванный накануне разговор. Он признался, что любил в юности некую молодую особу, жившую в Н. Родители ее слыли людьми обеспеченными, а у него, студента, не было ничего, кроме головы на плечах.
— Я уезжаю в Париж, — сказал он ей, — и надеюсь получить там приличное место. Я буду работать день и ночь, чтобы стать достойным вас. Скажите, вы не забудете меня?
Молодой особе было не то шестнадцать, не то семнадцать лет, и была она весьма романтична. В знак своей верности она подарила ему букет. Год спустя он узнал, что она вышла замуж за Н-ского нотариуса. Обен как раз готовился занять место преподавателя в коллеже. Этот удар сразил его, и он не стал участвовать в конкурсе. Долгие годы он не мог думать ни о ком и ни о чем другом; и, вспоминая эту обыденную историю, он был так взволнован, словно она случилась накануне. Затем, вынув из кармана букет, он сказал:
— Хранить его было глупо, наивно, а быть может, и грешно.
И бросил букет в камин. Когда бедные цветы перестали потрескивать в охватившем их пламени, он заговорил уже более спокойным тоном:
— Благодарю вас за то, что вы вызвали меня на этот разговор. Вам я обязан тем, что избавился от памятного подарка, хранить который мне не подобало.
Но на сердце у него было тяжело, и выражение лица выдавало, чего стоила ему эта жертва. Что за жизнь, боже мой, у этих несчастных священников! Они обязаны отгонять мысли, самые невинные, подавлять в сердце своем чувства, которые составляют счастье прочих смертных... вплоть до воспоминаний, привязывающих человека к жизни. Священники подобны нам, бедным женщинам: всякое сильное чувство им заказано, как преступление. Им дозволено только страдать, да и то молча. Я раскаиваюсь в своем любопытстве, словно в дурном поступке, но виной этому ты.
(Мы опускаем несколько писем, в которых не говорится об аббате Обене.)
Та же к той же Нуармутье... май 1845 г.
Я давно собираюсь написать тебе, дорогая моя Софи, но какой-то ложный стыд все время удерживал меня. То, что я хочу поведать тебе, так странно, так нелепо и вместе с тем так печально, что я, право, не знаю, растрогаю я тебя или рассмешу. Да и я сама еще ни в чем не могу разобраться. Но довольно ходить вокруг да около, приступаю к делу. В своих письмах я не раз говорила тебе об аббате Обене, нашем приходском священнике. Я даже рассказала тебе некую историю, предопределившую его призвание. В моем теперешнем одиночестве и в известном тебе грустном расположении духа общество умного, образованного, воспитанного человека было драгоценно для моего сердца. Весьма вероятно, что я не сумела скрыть свой интерес к нему, и он вскоре стал бывать в нашем доме на правах давнишнего друга. Признаюсь, что беседа с человеком недюжинным, возвышенный ум которого лишь выигрывает от незнания света, была для меня неизведанным доселе удовольствием. Быть может, в этом сказалась также помимо моей воли — ведь тебе я должна все говорить без утайки и не от тебя мне скрывать свои недостатки — присущая мне «наивность» кокетства (твое словцо), в которой ты частенько меня упрекала. Я люблю нравиться тем, кто мне нравится, и хочу быть любимой теми, кого я люблю... Я так и вижу, как при этом вступлении ты удивленно раскрываешь глаза, и мне слышится твой голос: «Жюли!» Успокойся, в мои годы поздно делать глупости. Итак, продолжаю. Между нами установилась своего рода близость; спешу, однако, заметить, что он ни разу не сказал и не сделал ничего, что не приличествовало бы его сану. Ему нравилось в моем доме. Мы часто беседовали о его молодости, но иной раз я упоминала — и совершенно напрасно — о романтической любви, которой он был обязан букетом (пепел этого букета остался в моем камине) и своим темным одеянием. Вскоре я заметила, что он перестал думать об изменщице. Однажды он встретил ее в городе и даже разговаривал с ней. Он сказал мне об этом по возвращении, спокойно заметив, что она счастлива и что у нее прелестные дети. Случай сделал его свидетелем некоторых гневных вспышек Анри, что привело меня к признаниям, в известной мере вынужденным, а его — к еще более сердечному участию во мне. Мужа моего он изучил так, словно знаком с ним десять лет. Да и советчик он такой же хороший, как ты, только более беспристрастный: по-твоему, всегда виновны обе стороны, он же неизменно оправдывает меня, в то же время советуя мне вести себя осмотрительнее и дипломатичнее. Словом, он выказал себя преданным другом. В нем есть что-то пленительно-женственное, и по складу характера он напоминает мне тебя. Человек он восторженный и твердый, впечатлительный и вдумчивый, фанатически преданный долгу... Я болтаю, нанизываю слова, чтобы оттянуть признание. Не могу писать вполне откровенно: лист белой бумаги смущает меня. Как бы мне хотелось сидеть с тобой у камина за пяльцами и вышивать вместе одну и ту же портьеру! Словом, словом, Софи, пора все же сделать это признание: несчастный влюбился в меня. Тебе смешно? Ты скандализирована? Хотелось бы мне видеть тебя в эту минуту. Разумеется, он ничего не говорил мне, но в таких вещах мы, женщины, никогда не обманываемся, а его большие черные глаза!.. Вот теперь ты, конечно, смеешься. Какой светский лев не позавидовал бы столь красноречивому взгляду! Сколько мужчин пытались что-то сказать мне глазами и говорили одни глупости! Едва я поставила этот диагноз больному, как, признаюсь, моя коварная натура возликовала. Победа в мои года, да еще безгрешная победа!.. Не так-то просто внушить такую страсть, такую несбыточную любовь!.. Фи — что за недостойное чувство! Но оно тут же прошло. «Мое легкомыслие может сделать несчастным этого глубоко порядочного человека, — подумала я. — Нет, такой беде надо помешать». Я стала ломать себе голову над тем, как удалить его из Нуармутье. Однажды во время отлива мы гуляли с ним по берегу моря. Он не решался заговорить со мной, мне тоже было не по себе. Моя болтовня перемежалась убийственными пятиминутными паузами. Боясь выдать свое смущение, я принялась собирать ракушки.