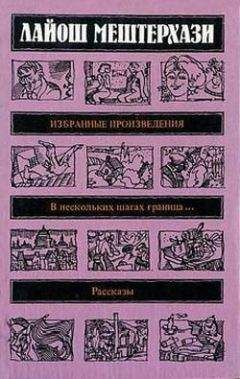– Я понял.
– …Которые будут слегка хромать, ибо эндокринные железы и нервная система…
– Я понял: не перфорационная лента и ткацкий станок…
– Да. Но ткацкий станок продолжает работать и, конечно, в соответствии с испорченной, именно благодаря испорченной ленте, ткет образцы. Возможно, и неплохие, оригинальные, причудливые, наверно даже красивые образцы.
– Только не те, что нужно.
– Да. Не те, что задумывали, планировали, ждали от нее.
– Нелогичные, бессмысленные образцы.
– Нет, нет. В соответствии с деформированной перфорационной лентой совершенно логичные, четкие, последовательные образцы.
Наступило молчание.
– Словом, это эндокринойя.
– Пока не пройдет испорченная, смятая, сжатая часть ленты… – Он вздохнул. Стал более человечным. Родственным. – Но неизвестно заранее, когда это будет.
Теперь уже прямая дорога вместе с нами бежала в городок, где мы выедем на магистральное шоссе. Перед нами открылся заснеженный пейзаж, низкие холмы предгорья сливались с туманными полями Альфельда.
– Ты ее вылечишь?
– Да. – И теперь, пожалуй, это говорил не врач.
Я попытался представить себе Аготу. Растерянную, больную. И все же, как диктует сама болезнь, логичную, последовательную, если угодно, разумную. Словно кто-то живет подле нас в другом гравитационном пространстве, иначе расположены у него голова и туловище, другая горизонталь, вертикаль, кривизна… Нет, нет, это ужасно! Хуже, чем… Хуже не бывает.
– Лайош, пожалуйста, не щади меня. Все равно мне не избежать потрясения. Подготовь меня, я должен знать, что нас ждет…
Мы доехали до городка – один за другим два оживленных перекрестка; Лайош сделал вид, что не слышит моих слов. Наконец мы выехали на магистральное шоссе, последние дома остались позади.
– Правда, надо тебя подготовить. – И он замолчал, не зная, с чего начать, или забыл обо мне.
– Какие симптомы у Аготы? В чем, как проявляется болезнь?
– По сути дела, ни в чем. Несведущий человек не обнаружил бы никаких отклонений от нормы. И ты тоже, не зная, что это эндокринойя, сказал бы, что Агота…
Мы обогнали грузовик с прицепом. В грохоте мне показалось, будто я не расслышал…
– Что?!
– Я говорю: влю-бле-на.
– Влюблена?! Ну это… Не понимаю и не верю. Говоришь, никаких отклонений от нормы… Больше двадцати лет мы прожили вместе; Агота уравновешенная, образованная женщина; у нее двое детей, она руководитель отдела культуры солидного еженедельного журнала. И ей сорок семь лет. Точней, сорок семь будет летом, седьмого августа.
– А почему нет? – Лайош раздраженно тряхнул головой. – Такое уже бывало.
– Но Агота!
Я попал в точку. Он долго молчал.
– У нее одна из самых распространенных форм эндокринойи. И наиболее безвредная, по крайней мере для
– Не кричи, пожалуйста! Попович не врач. Впрочем, он даже отказался работать у нас. Ходит только навещать Аготу.
– И ты разрешаешь?
– Не могу запретить. Тем более потому, что это может непредвиденным образом повлиять на состояние больной. Я пытался.
– Надо пожаловаться на этого хулигана!
– Чего ты этим добьешься? Агота возьмет его под защиту.
– А эндокринойя?
– В судебной медицине она пока еще не служит критерием невменяемости.
– И мы допустим, чтобы жертвой проходимца, бабника, живодера стала твоя сестра, моя жена?
Пожевав губами, он сказал наконец:
– Я не могу… Мы не можем… По всем признакам этот человек серьезно любит Аготу.
– Не шути! Агота не сопливая медсестричка. Сорокасемилетняя женщина… В августе ей исполнится…
– А Поповичу пятьдесят два. Он уже не мальчик.
– Тем более…
– Для своего возраста Агота еще очень привлекательная женщина.
– «Для своего возраста», разумеется… Знаю. Наверно, даже лучше тебя! Не твою сестру хотел я обидеть, когда усомнился в пылкой, чистой любви Хубы Поповича.
– Я уже просил тебя не кричать.
Тут наш спор приобрел несколько иной характер. Стал академическим. И сосредоточился на одном.
Под конец Лайош очень серьезно взял с меня слово, что я даже не упомяну Аготе о ее болезни.
– Если надеешься, что она когда-нибудь поправится, ни слова! Эндокринойи нет! Понятно? Нет ее. Это не шутка!.. Есть любовь. Есть то, что Агота говорит. И ты будешь сдерживать свои страсти. Когда-нибудь все равно она узнает, что была больна. Поймет это. И наступит выздоровление.
Он попросил, чтобы я подождал на улице, у ворот института. Попросил из деликатности: сейчас время посещения больных, незачем мне встречаться с Хубой Поповичем. Погодя он пришлет за мной медсестру.
В городе, на мостовой, тротуарах снега, конечно, не было – одна слякоть. Возле тротуара подтаивающие, слежавшиеся, прежде белые кучи снега. Там, где тонкая корка у них сломалась, в этот теплый день они точь-в-точь как вата. Я закурил сигарету.
Собственно говоря, зачем я стою здесь, зачем меня привезли сюда? Что мне здесь делать? Я играю свою роль. Соглашаюсь на развод. Может быть, есть даже какой-нибудь документ, сложенный вдоль лист,[3] который мне надо подписать не читая. За свою жизнь я не прочел ни одного издательского договора. Неужто я расстроен?
Конечно, расстроен. Из-за Аготы. Из-за этой эндокринойи. Кто знает, Лайош, наверно, меньше сказал о болезни, больше о надеждах… Да, я расстроился из-за бедняжки Аготы.
Впрочем, как ученый – и не только как ученый – на самом деле я был поражен, полон любопытства. По крайней мере пока.
Разве я оскорбленный муж? Больная женщина не может оскорбить. Ревнивый или покинутый влюбленный? После двадцати с лишним лет супружеской жизни, о боже! Нет, нет, как ни старался, я не чувствовал боли в душе.
Я, разумеется, знал – ведь к пятидесяти годам уже немало испытано, – будет еще боль. Предположим, действительно… Да. Одному просыпаться по утрам. Пройдут, наверно, месяцы, пока привыкнешь. И через много лет тоже будет еще вспоминаться… Ночью повернусь и не услышу ее посапывания. Это тоже такое… И даже иначе, и даже по-настоящему защемит на сердце. Вдруг раскрою книгу – мелким убористым почерком Аготы заметки на полях. На другой надпись: «Тебе, папочка, в день сорокапятилетия. Желаю тебе, премудрому, долгой жизни. От мамочки».
Что это будет? Любовь, любовная мука? Или отсутствие привычного? Стариковская тоска?
Или будет все равно?
Я прошелся, бросил окурок в кучу снега. И полез в карман за пачкой сигарет. Но стоп! Как раз сюда выходят окна больничных палат. Может быть, эта тертая морковка следит за мной и комментирует мое поведение: «Курит сигареты одну за другой. Ну и ну!» Нет! Лучше стоять, спокойно смотреть по сторонам…
Я уже не знал, куда девать руки.
К счастью, пришла медсестра.
Не в форменной одежде, а в коричневом зимнем пальто. Вроде совсем девочка, но, если приглядеться, между тридцатью и пятьюдесятью годами. Гладкие черные волосы, маленькая вязаная шапочка. Впрочем, лицо даже напоминало бы лик Мадонны, если бы не было в нем чего-то отталкивающе замкнутого, расплывчатого, я бы сказал, чего-то мужского. Какая-то напряженная готовность к атаке, агрессии… А как она заговорила!
– Вы муж Аготы?
– Да, я муж Аготы. А вы медсестра из ее отделения?
– Я не медсестра, а подруга Аготы. Меня зовут Ализа.
– Простите, Ализа.
Я смотрел на нее и не мог вспомнить, не мог вспомнить подруги по имени Ализа. Да, я упустил из виду множество подруг, большей частью коллег Аготы.
Чепуха! Я уже знаю, что она медсестра. Однако она хорошо играет свою роль, прекрасно играет эта Сводница, Подруга, Наперсница. Будь она чуть мягче, снисходительней! Ко мне?… Да я тут при чем?
– Агота просила передать, чтобы вы подождали. Она скоро выйдет. Мы пойдем домой, она хочет кое-что взять там. Пойдем пешком, ей полезен свежий воздух, и по дороге вы можете обо всем поговорить.
Я не выпалил: «Слушаюсь!» Спросил, как себя чувствует Агота.
– Как ей себя чувствовать? Хорошо себя чувствует. И, пожалуйста, не корчите такой жалкой мины. От ученого, человека, известного на всю страну, признаюсь, в этой ситуации я ждала чуть больше мужества.
– Я не корчу жалкой мины. Поверьте, милая Ализа, я беспокоюсь за Аготу, жалею ее.
– Гм! «Поверьте, милый Дюла», я не деревенская девчонка, впервые попавшая в Пешт; это типичная мужская слабость, вызывающая жалость у женщины. Перестаньте, пожалуйста. И не беспокойтесь за Аготу, не жалейте ее. Она ни в том, ни в другом не нуждается. И не просит об этом. Как непосредственная свидетельница могу сказать: хватит ей слез, бессонных ночей, терзаний из-за вас, детей, семьи. Если вы ее любите – я имею в виду по-настоящему, всей душой, – радуйтесь, что все это уже позади. И не бередите ее раны, изображая на своем лице мольбу о материнской ласке. Примите хороший совет: в такой ситуации надо быть искренним. Без многословия, «да» и «нет»; никакой мимики, никаких жестов, нюансов. Neue Jachlichkeit.[4] Такой стиль. Не терять достоинства.