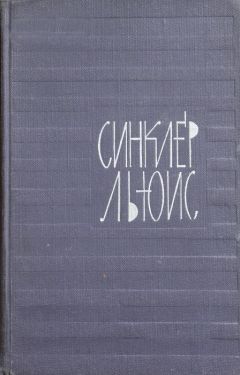Всегда приятно, когда тебя ставят на место. Расположившись под фиговым деревом у себя в Вермонте, я буду самым несчастным человеком, если на свете не найдется очередного мистера Барта, который возьмет на себя труд поставить меня на место. Наверно, когда наступят эти нелегкие времена, лет эдак через двадцать, я настолько отчаюсь, что, возможно, захочу написать об одной древней книге, именуемой «Главной улицей».
1937Джеймсу Брэнчу Кэмпбеллу[3]и Джозефу Хергесгеймеру[4]
Вот городок в несколько тысяч жителей, среди полей пшеницы и кукурузы, молочных ферм и рощ. Это — Америка.
В нашем рассказе городок называется Гофер-Прери, штат Миннесота. Но его Главная улица — это продолжение Главной улицы любого другого городка. История наша была бы той же в Огайо или Монтане, в Канзасе, Иллинойсе или Кентукки, и немногим изменилась бы она в штате Нью-Йорк или на холмах Каролины.
Главная улица — вершина цивилизации. Для того, чтобы вот этот форд мог стоять перед галантерейным магазином, Ганнибал вторгался во владения римлян и Эразм писал свои трактаты в монастырях Оксфорда. То, что бакалейщик Оле Йенсон говорит банкиру Эзре Стоубоди, должно быть законом для Лондона, Праги и никому не нужных островов, затерянных в океане. То, чего Эзра Стоубоди не знает и не одобряет, — это ересь, которую не к чему знать и над которой не подобает размышлять. Наша железнодорожная станция — высшее достижение архитектуры. Годичный оборот Сэма Кларка, торговца скобяным товаром, — предмет зависти всех четырех округов, составляющих Благословенный край.
Во «Дворце роз» идут утонченно чувствительные фильмы; в них есть мораль и благопристойный юмор.
Таковы основы наших здоровых традиций; таков наш незыблемый символ веры. И разве не выказал бы себя чуждым американскому духу циником тот, кто изобразил бы Главную улицу иначе или смутил граждан предположением, что возможен и иной символ веры?
I
На одном из холмов над Миссисипи, где два поколения назад кочевали индейцы-чиппева, стояла девушка. Ее фигура четко вырисовывалась на фоне василькового северного неба. Индейцев она уже не видела. Она видела мукомольные заводы и мерцающие окна небоскребов в Миннеаполисе и Сент-Поле. Она не думала ни об индианках, ни о краснокожих носильщиках, ни о белых скупщиках пушнины, чьи тени витали вокруг нее. Мысли ее были об ореховой пастиле, о пьесах Брие, о том, почему стаптываются каблуки, и о том, что преподаватель химии обратил внимание на ее новую, закрывающую уши прическу.
Ветер, пролетевший тысячи миль над возделанными нивами, раздувал на ней юбку из тафты, создавая линии столь грациозные и полные такой живой и динамичной красоты, что сердце случайного наблюдателя на дороге сжалось бы от задумчивой грусти при виде этой воздушности и свободы. Она подняла руки, откинулась назад под ветром; ее платье развевалось и трепетало, из прически выбилась прядь волос. Девушка на вершине холма. Доверчивая, восприимчивая, юная. Впивающая воздух с такой же жадностью, с какой она готова была впитывать жизнь. Извечная грустная картина чего-то ожидающей молодости.
Это Кэрол Милфорд, убежавшая на часок из Блоджет-колледжа.
Дни пионеров, дня сельских красоток в капорах и медведей, которых убивали на вырубках топорами, ушли в прошлое еще дальше, чем Камелот.[5] И теперь дух этой мятущейся страны, которую называют американским Средним Западом, олицетворяет своенравная девушка.
II
Блоджет-колледж находится на окраине Миннеаполиса. Это оплот здоровой религиозности. Он все еще борется с новомодными ересями Вольтера, Дарвина и Роберта Ингерсолла.[6] Благочестивые семьи Миннесоты, Айовы, Висконсина, Северной и Южной Дакоты посылают сюда своих детей, и Блоджет оберегает их от развращающего влияния университетов. Из его стен вышло много милых девушек, молодые люди — любители пения и даже одна учительница, которой нравятся Мильтон и Карлейль. Так что четыре года, которые провела здесь Кэрол, не пропали даром. Небольшие размеры школы и малочисленность соперников позволяли ей свободно проявлять свою опасно многостороннюю натуру. Она играла в теннис, устраивала скромные вечеринки, участвовала в специальном семинаре по изучению драмы, флиртовала, состояла членом десятка обществ, занимавшихся разными искусствами и усвоением тех сложных вещей, которые называются «общей культурой».
В ее группе были две или три девушки красивее ее, но не было ни одной более увлекающейся. Она выделялась усердием и в занятиях и в танцах, хотя среди трехсот студентов Блоджета многие отвечали лучше или танцевали бостон более плавно. Каждая клеточка ее тела — тонкие запястья, нежная, как айвовый цвет, кожа, наивные глаза, черные волосы — все это было полно жизни.
Другие девушки в дортуаре удивлялись ее миниатюрности, когда видели ее в неглиже или выбегающей из — под душа. Тогда она казалась вдвое меньше, чем можно было предположить, прямо хрупкий ребенок, нуждающийся в бережной заботе и ласке. «Неземная натура, — шептали о ней подруги. — Утонченная душа». Но она сама излучала столько энергии, так смело и уверенно тянулась навстречу всему доброму и светлому, что была куда подвижнее и неутомимее тех неуклюжих девиц в рубчатых шерстяных чулках на толстых икрах и синих спортивных костюмах, которые с топотом скакали по гимнастическому залу на тренировках Блоджетской женской баскетбольной команды.
Даже когда она бывала утомлена, ее темные глаза внимательно следили за окружающим. Она еще не знала, как бессознательно жесток и высокомерно туп может быть мир, но если бы ей и пришлось столкнуться с этими его мрачными свойствами, ее взгляд не стал бы от этого ни скучным, ни угрюмым, ни слезливо страстным.
Несмотря на всю восторженность Кэрол, несмотря на ее привлекательность, в нее хоть и влюблялись, но побаивались ее. Даже когда она с особым увлечением пела гимны или замышляла какую-нибудь выходку, она все-таки сохраняла вид слегка надменный и скептический. Правда, она была доверчива — прирожденная обожательница героев; но она непрестанно все проверяла и исследовала. Чем бы она ни стала в дальнейшем, она никогда не была бы пассивной.
Разнообразие ее интересов постоянно заводило ее в тупик. По очереди она открывала в себе то замечательный голос, то талант к игре на рояле, то драматические способности, то писательские, то организаторские. Она неизменно разочаровывалась, но всегда воспламенялась снова и увлекалась то студентами-добровольцами, готовившими себя в миссионеры, то писанием декораций для драматического кружка, то хлопотами о рекламе для издававшегося в колледже журнала.
Особенно неотразима она была однажды в воскресенье, когда играла в церковном оркестре. Из глубины сумрака ее скрипка подхватывала тему органа, и отблеск свечей обрисовывал девушку в ее прямом, золотистом платье, со смычком в изогнутой руке, со строго сжатыми губами. В тот день все мужчины были увлечены религией и Кэрол.
На последнем курсе она стала всерьез задумываться над тем, как все ее многочисленные начинания и частичные успехи могли бы пригодиться ей в будущей карьере. Каждый день на ступенях библиотеки или в зале главного здания колледжа студентки толковали о том, что они будут делать по окончании курса. Девушки, которые были уверены, что им просто предстоит выйти замуж, с серьезным видом рассуждали о шансах на успех в деловом мире. Те же, которые знали, что им придется работать, намекали на мифических женихов. Что касается Кэрол, то она была сирота. Единственной близкой ее родственницей была сестра, слащавая особа, жена оптика из Сент-Пола. Большую часть денег, оставшуюся от отца, Кэрол уже истратила. И она не была влюблена, то есть влюблялась не часто и ненадолго. Она собиралась жить своим трудом.
Но что это будет за труд, как она завоюет мир — главным образом для блага самого мира, — ей было неясно. Большинство еще не помолвленных девушек предполагали пойти в учительницы. Их можно было разделить на два разряда; на легкомысленных молодых особ, заявлявших, что они бросят «мерзкую классную комнату и чумазых детей» в ту же минуту, как им представится случай выйти замуж, и на прилежных дев, широкобровых и пучеглазых, которые во время молитвы просили бога «направить их стопы по стезе полезного служения». Ни те, ни другие не привлекали Кэрол. Первые казались ей неискренними (в ту пору это было ее излюбленным словечком). Серьезные же девицы своей верой в спасительную роль латинской грамматики могли, по ее мнению, наделать зла не меньше, чем добра.
Несколько раз на последнем курсе Кэрол окончательно решала то изучать юриспруденцию, то писать киносценарий, то сделаться сестрой милосердия или же выйти замуж за неведомого героя.