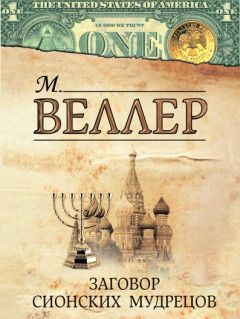Среди женщин не было ни одной миловидной; все приближались или перевалили за сорок пять. Все, несомненно, принадлежали к книжным клубам, бридж-клубам, клубам болтовни — к несметному и холодному братству неминуемой смерти. Все выглядели жизнерадостно-бесплодными. Возможно, у некоторых были дети, но как они произвели их на свет, теперь представлялось забытой тайной; многие нашли замену животворящей энергии в различных эстетических увлечениях, таких, как украшение комитетских помещений. Глядя на одну из них, рядом сидевшую, рельефно выделявшуюся даму с веснушчатой шеей, я знал, что, урывками слушая доктора Шуба, она, по всей вероятности, размышляла о каком-то декоративном фрагменте, имеющем отношение к некоему общественному мероприятию или церемонии военного времени, точную природу которых я не мог определить. Но понимал, как важен для нее этот заключительный штрих. «Что-нибудь посредине стола, — думала она. — Что-нибудь, чтобы люди ахнули, может быть, большую, громадную, колоссальную вазу с искусственными фруктами. Не из воска, разумеется. Что-нибудь грациозное, под мрамор».
Досадно, что я не запомнил имен этих дам, когда меня им представляли. Две по-девически стройные, взаимозаменяемые дамы на твердых стульях носили имена на W, одну из прочих, безусловно, звали мисс Биссинг. Это я слышал отчетливо, но не мог позднее связать с каким-либо лицом или человекоподобным предметом. Кроме меня и доктора Шуба там был только один мужчина. Он оказался моим соотечественником: полковник не то Маликов, не то Мельников; в передаче миссис Холл это прозвучало скорее как Милуоки. Пока предлагали какие-то бледные безалкогольные напитки, он наклонился ко мне с кожаным скрипом, как будто носил сбрую под потрепанным синим костюмом, и поведал мне хриплым русским шепотком, что имел честь знать моего почтенного дядюшку, которого я тут же вообразил как краснощекое, но горькое яблоко на генеалогическом древе моего тезки. Доктор Шуб тем временем вновь обратился к своему красноречию, и полковник выпрямился, обнажив сломанный желтый клык в своей отступающей улыбке, посредством тактичных жестов обещая мне, что мы славно потолкуем чуть позднее.
— Трагедия Германии, — говорил доктор Шуб, тщательно складывая бумажную салфетку, которой он вытер тонкие губы, — также и трагедия интеллектуальной Америки. Я выступал в многочисленных женских клубах и других гуманитарных центрах и заметил, как глубоко эта европейская война, теперь благополучно закончившаяся, отвратительна утонченным и чувствительным душам. Я также заметил, как охотно культурные американцы возвращаются к воспоминаниям о счастливых днях путешествий за границей, к какому-нибудь незабываемому месяцу или еще более незабываемому году, проведенному некогда в стране искусства, музыки, философии и здорового юмора. Они вспоминают дорогих друзей, обретенных там, сезон обучения и благоденствия в лоне семьи немецкого аристократа, безукоризненную чистоту во всем, песни на закате великолепного дня, прелестные маленькие города, всю ту ауру благожелательной романтики, найденную ими в Мюнхене или Дрездене.
— Моего Дрездена больше нет, — сказала миссис Малбери, — наши бомбы уничтожили его и все, что с ним связано.
— Британские, в данном конкретном случае, — сказал мягко доктор Шуб. — Конечно, война есть война, хотя, признаюсь, трудновато представить немецкие бомбардировщики, преднамеренно выбирающие какую-либо мемориальную историческую достопримечательность в Пенсильвании или Вирджинии в качестве мишени. Да, война ужасна. Точнее, становится нестерпимо страшной, когда навязана двум нациям, имеющим так много общего. Вам покажется парадоксальным, но, в самом деле, согласитесь, когда думаешь о солдатах, убитых в Европе, говоришь себе, что, по крайней мере, они избавлены от разъедающих сомнений, которые мы, гражданские лица, не смеем высказать вслух.
— Я думаю, это очень верно, — подтвердила миссис Холл, медленно кивая головой.
— А как насчет тех публикаций? — спросила старая дама с вязаньем в руках. — Публикаций о немецких зверствах в наших газетах? Полагаю, все это по большей части пропаганда.
Доктор Шуб ответил усталой улыбкой.
— Я ждал этого вопроса, — сказал он с ноткой печали в голосе. — К сожалению, пропаганда, преувеличения, фальшивые фотоснимки и тому подобное являются инструментом современной войны. Я не очень бы удивился, если бы узнал, что немцы, например, распространяют слухи о жестокости американских войск по отношению к невинным гражданским лицам. Вспомните все небылицы о так называемых немецких зверствах во время Первой мировой войны, эти дикие легенды о соблазнении бельгийских женщин и так далее. Так вот, сразу же после войны, летом, если не ошибаюсь, тысяча девятьсот двадцатого, специальная комиссия немецких демократов тщательно расследовала это дело, а мы знаем, как педантичны и дотошны могут быть немецкие эксперты. Так вот, они не нашли и малой толики доказательств того, что немцы не вели себя как настоящие солдаты и джентльмены.
Одна из двух мисс Дабл'ю кротко заметила, что иностранные корреспонденты должны зарабатывать на жизнь. Замечание показалось остроумным. Все оценили его ироническую подоплеку.
— С другой стороны, — продолжил доктор Шуб, когда рябь улеглась, — давайте на минуту забудем пропаганду и вернемся к скучным фактам. Позвольте нарисовать маленькую картину из недавнего прошлого, довольно грустную маленькую картину, но, возможно, необходимую. Представьте немецких парней, гордо входящих в какой-нибудь польский или русский город, завоеванный ими. Маршируя, они пели. Они не знали, что их фюрер сумасшедший, они невинно верили, что приносят надежду, счастье и великолепный порядок сдавшемуся городу. Откуда им было знать, что последующие ошибки и фантазии Адольфа Гитлера сведут на нет их завоевания, а противник устроит адское поле битвы из тех самых городов, которым, как думали эти немецкие парни, они подарили вечный мир. Браво маршируя по улицам во всем своем блеске, с великолепной военной техникой, под знаменами, они улыбались всем и вся, по-детски благодушны и благожелательны. Затем постепенно они осознали, что улицы, по которым они так задорно, так уверенно маршировали, окаймлены безмолвной и неподвижной толпой евреев, взиравших на них с ненавистью и оскорблявших каждого проходящего солдата, не словами, они были слишком умны для этого, но взглядами исподлобья и плохо скрытой насмешкой.
— Знаю я эти взгляды, — сказала миссис Холл мрачно.
— Но они не знали, — печально сказал доктор Шуб. — Вот в чем дело. Они были озадачены. Не понимали и были уязвлены. Какова же была их реакция? Сначала пытались побороть эту ненависть терпеливыми разъяснениями и маленькими знаками доброты. Но стена ненависти, обступившая их, становилась только толще. В конце концов пришлось изолировать главарей злобной и дерзкой коалиции. Что еще им оставалось делать?
— Я случайно знаю старого русского еврея, — сказала миссис Малбери. — Ну, просто деловой знакомый мистера Малбери. Он признался мне однажды, что с радостью задушил бы своими руками первого встречного немецкого солдата. Я была так поражена, что растерялась и не знала, что ответить.
— Я бы знала, — сказала коренастая дама, сидевшая широко расставив колени. — И вообще, слишком много разговоров о том, чтобы проучить немцев. Они тоже люди. Любой разумный человек согласится с вами, что они неповинны в так называемых зверствах, большая часть которых была, возможно, выдумана евреями. Меня выводит из себя, когда я слышу, что люди все еще толкуют о газовых и пыточных камерах, которые если и существовали, то обслуживались горсткой людей, таких же невменяемых, как Гитлер.
— Так вот, следует учесть, — сказал доктор Шуб со своей кошмарной улыбкой, — и принять во внимание работу живого семитского воображения, которое воздействует на американскую прессу. Нельзя также забывать, что существовало множество чисто санитарных мероприятий, к которым вынуждена была прибегнуть дисциплинированная немецкая армия, имея дело с трупами стариков, скончавшихся в полевых лагерях, и жертвами тифозных эпидемий. Я настолько свободен от каких-либо расовых предрассудков, что не понимаю, каким образом эта допотопная расовая проблематика определяет отношение, усвоенное к Германии сейчас, когда она капитулировала. И в особенности — вспоминая, как англичане обращаются с туземным населением в своих колониях.
— Или как евреи-большевики поступили с русским народом ай-я-яй, — вставил полковник Мельников.
— Неужели это актуально еще и сегодня? — спросила миссис Холл.
— Нет-нет, — испугался полковник, — великий русский народ проснулся, и моя страна — опять великая держава. У нас было три великих самодержца. У нас был Иван, которого враги прозвали Грозным, у нас был Петр Великий, и теперь у нас Иосиф Сталин. Я белый офицер и служил в царской гвардии, но я также русский патриот и православный христианин. Сегодня в каждом слове, долетающем из отечества, я чувствую мощь, чувствую величие нашей матушки России. Она опять страна солдат, оплот религии и настоящих славян. Мне доподлинно известно, что, когда Красная армия входила в немецкие города, ни один волос не упал с немецких плеч.