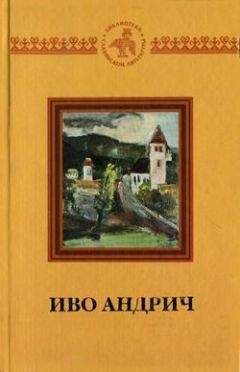И, как бы дождавшись завершения действия, поп вздрогнул и, сбросив оцепенение, побрел домой, старательно обходя лежавшую пару и прячась от глаз троих, поднимавшихся тропинкой в гору.
Полдень давно уже прошел. На вопрос своего слуги Радивоя, отчего он так задержался, Вуядин пробормотал что-то невразумительное, не в силах собраться с мыслями и как-то связно объяснить свое опоздание к обеду. Он расхаживал по пустому дому и чувствовал на своих плечах свинцовую тяжесть этого дня, себя самого и земли, жегшей его ступни раскаленными углями. Он сам был высохшим деревом. Пальцы слипались от смолы. Жажда терзала его. Веки смыкались. Ноги не слушались. Наконец его сморил тяжелый послеобеденный сон.
Проснулся Вуядин совсем разбитым. Смутной болью всплыло в нем воспоминание о компании иностранцев в лесу. Он вышел из дома и пошел напрямик, через каменную осыпь, к сосновому бору. Солнце зашло. На той поляне никого не было. Скомканные бумажки и станиоль, разбросанные в траве, тускло поблескивали. В мягкой земле различались еще следы женских ног, глубокие, косые и, на его взгляд, такие невероятно маленькие! Он пошел по этим следам, мешавшимся со следами мужских ног и конских копыт. Но Вуядин внимательно следил за ними, на мгновения теряя их из виду и снова находя. Он шел. словно в тумане, все ниже пригибаясь к земле, как бы что-то отыскивая или собирая. Кровь прилила к голове, заодно с темнотой сбивая его с пути и заслоняя следы. Так он пришел к развилке, где кончалась тропа и начиналась дорога. Тут они, должно быть, сели на коней. А теперь здесь было пусто и совершенно темно. На фоне еще светлого неба вырисовывался покосившийся дорожный столб.
Вуядин пробирался исхоженной тропой, держась оград и выжженных солнцем обочин, осыпавшихся под ногами. Ночь безоблачная, но духота не спадает. Дышать тяжело, как будто над головой железный свод. Он перешел через журчащий поток, не дававший ни прохлады, ни свежести. И оказался в своем сливняке возле дома, смутно различавшегося в потемках. Отупевший от усталости, он опустился на землю. А едва немного отдохнул, воспоминания о виденных сегодня женщинах снова нахлынули на него, а вместе с ними и сомнение: действительно ли он их видел или просто грезил о них? Совершенно, казалось бы, безобидная мысль не давала ему покоя. Он вскочил в невероятном возбуждении. Действительно он видел их, или это только грезы? Конечно, видел. И он хотел было сесть, но передумал и еще раз огляделся вокруг.
Кругом была кромешная тьма, глухая, давящая деревенская тьма. Беспомощным и жутким стоном отзовется в ней порой последний одинокий отзвук дня перед тем, как потонуть в ночи, враждебной ночи без рассвета. И снова болезненным тиком в висках стучит вопрос: действительно ли там были женщины или это плод его воображения? От этой мысли дрожь сотрясла его тело; оглядевшись оторопело вокруг, он снова устремился к тому месту, где только что был. Спотыкаясь в потемках, добрался кое-как до перекрестка и схватился за дорожный столб. Нагнулся и принялся ощупывать руками утрамбованную глину, увлажненную разлившимся потоком. Упав на колени, он в темноте нашаривал руками отпечатки женских каблуков, трясясь от страха и нетерпеливого желания увериться, что же это было – реальность или сон? Но его дрожащие, пылающие пальцы не могли убедить его ни в чем.
– Я видел их. Это были живые мужчины и женщины, – нашептывал он про себя, но продолжал лихорадочно обшаривать землю в поисках следов и пронзать взглядом тьму, пытаясь разглядеть те самые бумажки, которые он явственно видел в сгущавшихся сумерках или думал, что видел. В конце концов он должен был оставить поиски. В свой сливовый сад он вернулся как обреченный, окончательно утративший веру в свои органы чувств. Здесь он повалился навзничь на колкую и не остывшую еще траву. И долго так лежал, раскинув руки, как распятый, прикованный к земле непомерной тяжестью своего собственного тела. Из горячечного забытья его вывели голоса. У Тасичей на гумне пылал костер, его окружали люди. В отблесках огня мелькали мужские и женские лица, возникая в кругу света и снова растворяясь во тьме, куда их уводила работа. Голоса звучали то громче, то слабее, но слов из-за рокота потока за дорогой и полем, которые отделяли его от костра, разобрать было нельзя.
Тасичи собирались просеивать пшеницу. Так обычно делали в знойную пору, когда днем стояло полное безветрие и мякину совсем не относило. Дожидались ночного ветерка, и около девяти часов вечера он непременно задувал из ущелья в скалах даже во время самой тяжелой жары.
На краю гумна горел костер. Держа зажженные лучины в высоко поднятых руках, девушки светили работникам; длинные белые рукава свисали с поднятых рук; девушки стояли как вкопанные, лишь изредка перемещая лучину из одной руки в другую. Мужчины махали лопатами. В алых отсветах костра пшеница взлетала вверх, зерно тяжелым дождем возвращалось на гумно, а мякина, подхваченная легким ветерком, уплывала во тьму и там рассеивалась.
Людские голоса вывели Вуядина из оцепенения. Возбуждение, накапливавшееся в нем весь этот день, вскипело вдруг и достигло предела. Трясясь в ознобе, он глухо бормотал:
– И ночью нет покоя, вертятся тут в потемках, лучинами мельтешат, метут подолами.
Утреннее видение женщин, за которыми он наблюдал из-за покосившейся сосны, поиски следов, теряющихся в темноте, и вот теперь эта непроглядная ночь с внезапно распахнувшимся в ней зоревым пылающим окном с призраками машущих лопатами мужчин и мелькающих женщин – это все и есть его тайная явь, отравленная горечью и мукой, питающая его ненависть. И в ней нет даже намека на другую истинную реальность, в которой отец Вуядин служит в церкви, совершает требы, разговаривает с прихожанами, по базарным дням идет в город, а женщины и перепуганные дети спешат уступить ему дорогу и прикладываются к его руке. Нет ничего, что бы отрезвило его и помешало ему послушаться голоса его безумия.
По-прежнему бормоча себе что-то под нос, поспешным шагом преследуемого человека он прошел свой сливняк и, ворвавшись в дом, погруженный во тьму, очутился у окна, глядевшего на церковный двор и гумно Тасича. Натыкаясь на мебель, как бы переставшую для него существовать, Вуядин нащупал на стене охотничье ружье, всегда заряженное. И, даже как следует не прижав его к плечу, выстрелил в направлении освещенного костром гумна. Приклад дернулся, приятно поразив его стремлением вырваться из рук и полететь, и сильно ударил в грудь. И отдача тоже понравилась ему. Он еще раз нажал на спуск. На этот раз на гумне поднялись визг, крики о помощи. Лучины метнулись и попадали, люди разбежались, и только костер одиноко горел в стороне. Послышались и мужские голоса. И все это перекрывал протяжный старческий вопль:
– Иова, сыночек, убивают!
Пули, пущенные им в ту ночь на гумно Тасича, оповещали о полной и окончательной победе той скрытой жизни, которой столько лет сопротивлялся и которую столько лет мучительно таил от посторонних глаз отец Вуядин. И по той же восторжествовавшей в нем новой логике вещей поп, нашарив на полке большой, фочанской работы нож, стиснул его в руке и ринулся в ночь.
Он перешел вброд Рзав, в это время года мелкий и теплый. В изнеможении, тяжело дыша, он рухнул на песок под молодыми ракитами. И здесь, не переставая что-то монотонно бубнить, долго сидел, остужая водой грудь и лоб, словно споласкивал рану.
Назавтра по окрестным селам и в городе распространилась весть, что отец Вуядин в приступе безумия стрелял в людей, работавших у Тасича на гумне, и ушел в лес по ту сторону Рзава. Во все это было трудно поверить, и никто не был в силах понять это и объяснить. В особенности не могли прийти в себя от изумления горожане, ценившие попа Вуядина несравненно больше, чем его сельская паства. Но и мужики, принимавшие все сдержанней и проще, по-своему его жалели и недоумевали. Был базарный день. Крестьянки, идущие в город или из города, останавливались при встрече и, обменявшись обычными приветственными словами, тут же переводили разговор на попа Вуядина, крестясь и моля «единого, всемогущего и милостивого бога» уберечь от ненависти и своих и чужих.
Город наводнен был тогда жандармами и солдатами карательного корпуса, выслеживающими невесиньских повстанцев. Все они поднялись на поиски отца Вуядина. Крестьяне то и дело сообщали о том, что видели его там-то и там-то в лесу, оборванного, босого, простоволосого, с ножом, дико озирающегося вокруг. Но когда наряд прибывал на место, от попа там не было уже и следа. Ночью в горах он пугал пастухов, а когда те в панике разбегались, грелся возле их костров. Однажды именно костер его и выдал. Костер увидели издалека, и, когда жандармы уже перед самым рассветом подкрались к нему, Вуядин, сморенный усталостью, спал у тлеющих углей. Он так отчаянно сопротивлялся, что его пришлось связать.
Утром Вуядина провели через город. Руки ему скрутили за спиной (концы цепи держали жандармы), он шел каким-то неестественным быстрым шагом. Шел с непокрытой, закинутой назад головой, так что его длинные седые космы рассыпались по спине. Нижняя губа прикушена, глаза полузакрыты. В его обращенном к небу лице не было ничего безумного, а было что-то ужасно болезненное и страдальческое. И только налитые кровью глаза, когда он их открывал, смотрели на мир мутным бессмысленным взглядом. Все до единого его жалели. Женщины плакали. Власти находились в замешательстве. Пробовали развязать его, но он тут же бросался бежать. Так связанным его и переправили в Сараево. Тут, в большой больнице на Ковачичах, в полутемной клетушке он прожил еще десять лет, не сознавая ни себя, ни окружающего.