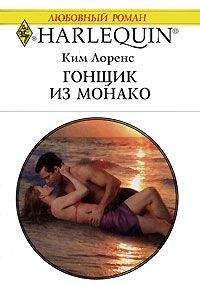Она воскликнула удивительно молодым своим голосом, задевающим какие-то струны в душе:
– Нет, сударь, нет. Другой человек, возможно, любил бы меня сильнее, но любил бы не так, как они. Ах, они пели мне песню любви, какой не спеть никому в мире! Она опьяняла меня. Да разве кто-нибудь другой, обыкновенный человек, мог бы создать то, что они создавали в мелодиях и словах? И много ли радости в любви, если в нее не могут вложить всю поэзию, всю музыку неба и земли! А они умели свести женщину с ума чарами песен и слов. Да, быть может, в нашей страсти было больше мечты, чем действительности, но такая мечта уносит за облака, а действительность всегда тянет вниз, к земле. Если другие и любили меня сильнее, чем они, то лишь через них двоих я познала, постигла любовь и преклонилась перед нею!
И вдруг она заплакала.
Она плакала беззвучно, слезами отчаяния.
Я делал вид, будто ничего не замечаю, и смотрел вдаль. Через несколько минут она заговорила:
– Видите ли, сударь, почти у всех людей вместе с телом стареет и сердце. А у меня не так. Моему жалкому телу шестьдесят девять лет, а сердцу – все еще двадцать. Вот почему я живу в одиночестве, среди цветов и воспоминаний.
Настало долгое молчание. Она успокоилась и сказала, уже улыбаясь:
– Право, вы посмеялись бы надо мною, если б знали… если б знали, как я провожу вечера… в хорошую погоду!.. Мне самой и стыдно и жалко себя.
Сколько я ни упрашивал, она больше ничего не захотела сказать. Наконец я встал, собираясь откланяться.
Она воскликнула:
– Уже?
Я сослался на то, что должен обедать в Монте-Карло, и тогда она робко спросила:
– А не хотите ли пообедать со мной? Мне это доставит большое удовольствие.
Я тотчас согласился. Она пришла в восторг, позвонила горничной, отдала распоряжения, а после этого повела меня осматривать дом.
Из столовой дверь выходила на застекленную веранду, уставленную растениями в кадках; оттуда была видна вся длинная аллея апельсиновых деревьев, убегавшая вдаль до самого подножия горы. Скрытое зеленью удобное низкое кресло указывало, что старая актриса частенько приходит посидеть здесь.
Затем мы отправились в сад полюбоваться цветами. Спускался тихий вечер, мягкий, теплый вечер, в воздухе струились все благоухания земли. Совсем уже смеркалось, когда мы сели за стол. Обед был вкусный, за столом мы сидели долго и стали друзьями, ибо она почувствовала, какая глубокая симпатия к ней пробудилась в моем сердце. Она выпила немного вина – «с наперсток», как говорили когда-то, и стала доверчивее, откровеннее…
– Пойдемте посмотрим на луну, – сказала она. – Милая луна!.. Обожаю ее. Она была свидетельницей самых живых моих радостей. И мне кажется, что теперь в ней таятся все мои воспоминания; стоит мне посмотреть на нее, и они тотчас воскресают. И даже… иногда… вечерами я балую себя красивым… зрелищем… очень, очень красивым. Если бы вам сказать… Да нет, вы бы посмеялись надо мной… Нет, не скажу… не могу… нет, нет…
Я принялся упрашивать:
– Полноте! Что вы! Расскажите. Обещаю вам, что не буду смеяться! Даю слово! Ну, пожалуйста.
Она колебалась. Я взял ее руки, жалкие, сухонькие, холодные ручки, и поцеловал одну и другую несколько раз подряд, как это делали когда-то «они». Она была тронута. Она колебалась.
– Так обещаете не смеяться?
– Честное слово!
– Ну, хорошо, идемте.
Она встала, и когда слуга, неуклюжий юнец в зеленой ливрее, отодвигал ее кресло, она что-то сказала ему на ухо быстрым шепотом.
Он ответил:
– Слушаю, сударыня. Сию минуту.
Она взяла меня под руку и повела на веранду.
Аллея апельсиновых деревьев в самом деле была чудесна. Луна уже взошла, большая, круглая луна, и протянула по середине аллеи длинную полосу света, падавшего на желтый песок меж круглых и плотных крон темных деревьев. Деревья стояли все в цвету, и ночь была напоена их сильным и сладким ароматом. А в черной листве порхали тысячи крылатых светляков, огненных мух, похожих на звездные зернышки.
Я восхитился.
– О, какая декорация для любовной сцены!
Она улыбнулась.
– Ведь правда, правда? Сейчас вы увидите.
Она усадила меня рядом с собой. И, помолчав, сказала тихонько:
– Вот почему жалко, что жизнь ушла. Но ведь вы, нынешние мужчины, о любви не думаете. Вы теперь биржевики, коммерсанты, дельцы. Вы даже разучились разговаривать с нами. Я говорю «с нами», но имею в виду, конечно, молодых женщин. Любовь превратилась теперь просто в связь и нередко начинается со счета портнихи, который женщине надо скрыть. Если вы найдете, что женщина не стоит таких денег, вы отступаете; если найдете, что женщина стоит больше, вы оплатите счет. Хороши нравы! Хороша любовь!
Она взяла меня за руку.
– Смотрите…
Я взглянул и замер от удивления и восторга… Вдали, в глубине аллеи, по лунной дорожке, обнявшись, шла влюбленная пара. Они шли медленно, прижавшись друг к другу, очаровательные, юные, и то пересекали лужицы света, который тогда ярко озарял их, то внезапно исчезали в тени. Он был в белом атласном кафтане, какой носили в минувшем веке, и в шляпе со страусовым пером; она – в платье с фижмами и в высокой пудреной прическе красавиц времен Регентства.
В ста шагах от нас они остановились посреди аллеи и с жеманной грацией поцеловались.
Тут я узнал в них обоих молодых слуг актрисы и весь скорчился на стуле, едва сдерживая безумное, нестерпимое желание расхохотаться. Все же я пересилил себя и не рассмеялся. Я изнемогал, мучился, дергался, но подавил в себе смех, как человек, которому ампутируют ногу, подавляет крик, рвущийся из горла и с губ.
Но вот юная чета повернулась, направилась в глубину аллеи и снова стала прелестной. Она уходила, удалялась, исчезала и наконец совсем исчезла, как греза. Ее уже не было видно. Опустевшая аллея стала печальной.
Я тоже ушел, ушел, чтобы больше не видеть их: я понял, что этот спектакль длится долго, ибо он возрождает прошлое, далекое прошлое любви и рампы, искусственное, обманчивое и пленительное прошлое, полное ложного и настоящего очарования, от которого все еще билось сердце бывшей актрисы и былой любовницы.
Напечатано в «Голуа» 20 марта 1886 года.
Рашель (1821–1858) – знаменитая французская трагическая актриса.