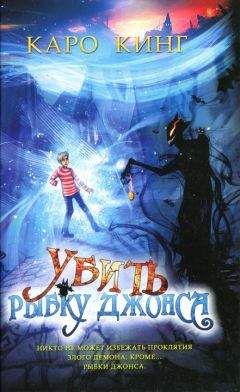Гримшо промолчал.
– И еще. Вашей жене давно пора обеспечить надлежащий уход.
– Ей чужие в доме ни к чему, – сказал Гримшо.
– И это опять же неважно. А как у вашей жены насчет родственников?
– Какие там родственники! У нее только и есть что сестра. И она к нам сроду не приходила.
– Ну а узнай она о болезни вашей жены, она ведь не отказалась бы прийти?
– Навряд.
– Тогда уговорите ее прийти. А если не сумеете, непременно сообщите мне, и я пришлю к вам опытную сиделку. Принудить вас я, разумеется, не могу, но…
Доктор поднялся, убрал фонендоскоп в саквояж. Женщина на кровати не шелохнулась, и Гримшо, пожирая ее глазами в надежде, а вдруг она как-то выразит свое согласие или несогласие с доктором, оставил его слова без ответа.
На пороге доктор знаком пригласил Гримшо следовать за ним.
– Слушайте внимательно, – сказал доктор. – Тепло и сиделка насущно необходимы. Если вы не пригласите сиделку, я, к сожалению, не могу взять на себя ответственность за исход болезни. Вы поняли меня?
– Да.
– Как у нее со сном?
– Она на сон не жалуется, доктор.
– Что ж, продолжайте давать ей лекарство. Завтра я еще раз сделаю укол.
Доктор ушел, и Гримшо снова поднялся наверх. Он еле передвигал ноги, до того был удручен и раздосадован, – подумать только, в их доме будет распоряжаться чужая: чужая женщина будет своими неумелыми торопливыми руками царапать девственную поверхность дерева; женщина эта непривычными правилами нарушит освященный временем домашний уклад. Ему ни к чему здесь чужая. А ей? Если он хоть сколько-то знает ее, ей тоже ни к чему.
Тем не менее его не оставляла тревога, и облегчению его не было предела, когда, войдя в спальню, он услышал ее кроткий, жалкий, испуганный, голос:
– Ты не станешь звать Эмму?
– Ноги ее здесь не будет, – сказал Гримшо. – И слово мое верное.
– И сиделку не наймешь? Не такая я уж хворая. Мне сиделка ни к чему.
– Все будет по-твоему, – сказал он. – Нужно тебе, чтоб за тобой ходили, так и будет. Не нужно, опять же будет по-твоему.
– Мне чужие в доме ни к чему.
Он испытал облегчение, чуть ли не радость. И до того показалась она ему маленькой, тщедушной, изнуренной, несмотря на яркие пятна румянца и толстые веревки вен на руках, что он и умилился и встревожился разом, в нем ворохнулась нежность, ничего общего не имеющая со свидетельствующими о недоедании остатками холодной рисовой запеканки, затыкающим щели тряпьем – той скаредностью, которая после стольких прожитых вместе лет ей вовсе не казалась скаредностью. Сердце его затрепыхало, и он в смятении зачем-то провел раз-другой по щетинистому лицу пожелтевшими, заскорузлыми руками.
– Нужен тебе уход, будет по-твоему, – сказал он.
– Не нужен, – отчаянно пробормотала она. – Мне чужие в доме ни к чему.
– Будь по-твоему, – сказал он и принял у нее тарелку из-под запеканки и пустую чашку. – А теперь сосни чуток, хорошо?
– Постараюсь, – сказала она. – А чем ты займешься?
– Посижу в мастерской. – И зашаркал к двери между нагромождений старинной, в снежных отсветах мебели. – Ты как, обойдешься без меня?
– Обойдусь, – сказала она.
Гримшо снова спустился вниз, составил грязную посуду в раковину и через асфальтированный двор позади дома прошел в мастерскую. Снег повалил еще сильнее, хлопья его стали пушистее, одели двор сплошным покровом чуть ли не в палец толщиной, заглушавшим шаги. Он толкнул широкую дверь мастерской, она беззвучно отворилась, вздыбив полукружье снега; когда же он прикрыл ее, ему почудилось, что мир за ней сковал могучий покой. Живым казался лишь снег, пушистые хлопья которого прорывали мертвый воздух, цеплялись за мертвый воздух, цеплялись за мертвые ветви сливы, пустившей корни в стене мастерской около окна.
Посреди мастерской на трех составленных в ряд козлах лежали прикрытые мешковиной вязовые доски. Гримшо сдернул мешковину, постоял, пригляделся к новехоньким ровным доскам, чуть погодя пробежал расплющенной заскорузлой ладонью по верхней доске. Дерево оживало под рукой – не то что стекло и металл, хоть оно и уступало им в гладкости. Прикосновение к дереву бросило Гримшо в сладкий трепет, и он опустил другую руку и провел ее взад-вперед по доске. Дерево было гладким на ощупь, но Гримшо знал, что ему под силу сделать его совсем атласным. Весь вчерашний день он потратил на то, чтобы остругать доски. И сегодня потратит еще полдня, чтобы их ошкурить. Вяз у него станет атласным, не хуже черного дерева. Гримшо уже несколько лет не приходилось делать гробов. В бытность его плотником с гробами вечно выходила спешка, но нынче ему не хотелось спешить. Хоть он и знал, что она вот-вот умрет, ему хотелось сделать гроб истово, своими руками, с любовью. По крышке он кое-где пустит неброскую резьбу, ручки привинтит серебряные, а уж на ощупь вяз будет вовсе атласный, точно как черное дерево. Ручки он припас давно, они хранились в ящике на верхней полке в дальнем конце мастерской. А что – есть они не просят. Жаль, не удалось раздобыть что-нибудь получше вяза. Гроб выйдет наособицу красивый, к тому же своя работа встанет дешевле.
И о могиле тоже надо подумать. Весь день, пока Гримшо шкурил доски, мысли его то и дело возвращались к могиле, а снег валил все пуще, отсветы его на стружке, инструменте и досках были все ярче, и вот снег уже коралловыми гроздьями повис на черных ветках сливы. Тишина позволила Гримшо без помех поразмыслить о могиле, и мало-помалу в его голове родилась могила, краше которой и вообразить трудно.
Он уже давно решил, что обычная земляная яма его не устроит. Каждый вершок могилы он облицует расписными изразцами. В укладке наверху хранились сотни три, а то и четыре таких изразцов: расписанные одни цветами и птицами, другие – видами. На его глазах она собирала их много лет кряду. И так на его глазах мало-помалу собрала себе на могилу, зато теперь он ее похоронит – краше не бывает.
Он трудился не разгибаясь, пока глаза не перестали различать предметы, снежное сияние и то не помогало. Тогда он отложил инструмент, побрел в дом и, только пересекая двор, занесенный снежной пеленой уже чуть ли не в руку толщиной, понял, что холод по-прежнему пробирает до костей. А поняв, поплелся назад в мастерскую, сгреб охапку стружки и щепок и отнес в кухню. Огонь в печке погас, он поднес спичку к растопке, швырнул поверх горсть кожаных обрезков, поставил чайник на треногу и только тогда поднялся наверх.
На лестнице была тьма кромешная, да и в спальне немногим светлее. Стараясь ступать как можно тише, он прошел в комнату, шепотом заговорил с ней:
– Ты как, ничего? Соснула чуток? – но она не отозвалась.
Встав у кровати, он оглядел ее. Она лежала в той же позе, в какой он ее оставил. Но он знал: что-то в ней изменилось. Он не сразу решился коснуться ее лица. Ее закрытые глаза были холодны на ощупь – он понял, что она заснула с тем, чтобы уже не проснуться.
Долго стоял оцепенев, глядя на нее, потом мысли его вновь вернулись к мастерской. Мало-помалу он пришел в себя и со спокойной целеустремленностью человека, основательно выносившего свои планы, направился к двери. Стянул с покойницы грубошерстное одеяло, накидку и начал ее обряжать.
К тому времени, когда он управился, в комнате уже была непроглядная темень, и, спустившись в кухню, он зажег стоявшую на полке коптилку. Чайник кипел, и он в третий раз на дню разбавил заварку и подсыпал туда пол-ложки свежего чая. Налил себе чаю, намазал ломоть хлеба свиным жиром, посыпал его солью и съел стоя.
Выпив чай, он прихватил лампу и прошел двором в мастерскую. По-прежнему шел снег, и снова, едва он прикрыл за собой дверь, весь мир за ней объял удивительный покой, покой снега, тьмы, мыслей о смерти.
Он привернул фитиль, поставил лампу на верстак, не мешкая принялся за дело и до самого утра забыл обо всем на свете. Перестал ли идти снег, и то забыл посмотреть. Помнил только одно: гроб в его руках обретает задуманные очертания. Но чувства его оставались смутными. Он не допускал их до себя, как полицейский не допускает на место происшествия зевак.
Лишь наутро, часов около восьми, он оторвал глаза от верстака и увидел, что снег больше не идет, а лежит пышными смерзшимися гроздьями кораллов на клонящихся к земле ветках сливы. Он задул лампу, и ослепительное сияние снега ворвалось в окно, выбелив почти готовый гроб. Он проработал еще примерно с час, не ощущая голода, вообще ничего не ощущая, и вот уже серебряные ручки были привинчены; в самом начале десятого он вскинул гроб на плечи и понес в дом.
Когда он, утопая по щиколотку в снегу, брел по двору, до него донесся скрежет лопат по мостовой – это сгребали снег. Скрежет разбередил его, напомнил о мире за стенами дома. Он вошел в дом, и уличные звуки умерли. Мир за стенами дома умер для него. Его перестало интересовать, чем живут, занимаются, о чем думают за стенами дома, он остался один в доме, с ней, с гробом да с изразцами, расписанными цветами и птицами, но одиночество не тяготило его. Они долго жили одни – он и она. Мебель, посуда постепенно заменили им людей, приволье, друзей – мир за стенами дома. Никому не было дано понять, какие чувства в нем пробуждает красота тех вещей, ради которых они недоедали, обкрадывали себя. У всех свои представления о жизни, и он не рассчитывал на понимание. Вот почему ей не хотелось пускать в дом чужих, вот почему ему сейчас хотелось быть одному.