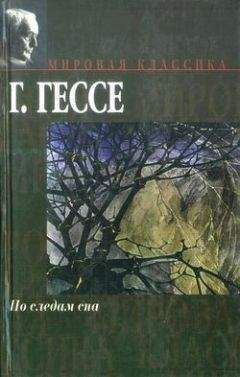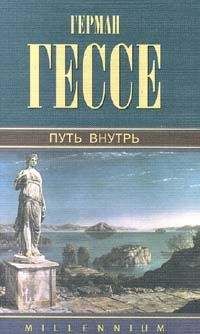Такую возможность мне щедро предоставила необходимость вручить властям как можно более точный перечень пропавшего добра. Работа эта, неплохое вообще-то упражнение для памяти, была в остальном малоприятной, и с каждым листком она делалась все неприятней, даже все больше пугала, как мы увидим.
Итак, прежде всего я должен был с помощью жены составить список моего имущества, и тут приходилось то и дело оглядываться назад и вспоминать, как то обычно бывает при расставаниях. Что же я потерял? Прежде всего сам чемодан, старого друга и спутника. Купил я его когда-то, в сказочные годы перед первой войной, в том же цюрихском бюро путешествий, где заказал билет в Индию. Этот чемодан сопровождал меня до Пенанга на судне, затем на суше до Сингапура, а потом, на судах гораздо меньшего размера, до Суматры и на долгом пути вверх по реке в джунгли; его таскали малайские и китайские кули, а к концу того единственного экзотического путешествия, которое он совершил, его покрыло множество гостиничных наклеек с диковинными названиями и на чужих языках. Однако за много лет они облупились и стерлись, и ничего от них не осталось.
Самым, пожалуй, ценным предметом, находившимся в чемодане, была пишущая машинка, легкая американская дорожная машинка. Получил я ее в подарок от одного моего друга, которого паломники в Страну Востока знают под именем Черного Короля; она помогла мне переписать начисто «Путешествие в Нюрнберг» и первые части «Степного волка», а затем, путем дарения, перешла в собственность моей жены. Машинке, во всяком случае, следовало найти замену.
Теперь были на очереди одежда и белье, оба моих хороших костюма, один из них — парадный, английского материала, сшитый на заказ, затем рубашки и ночные сорочки, дождевик, башмаки, носки. Со временем, наверно, ощутимей всего будет для меня отсутствие именно этих вещей, но сейчас печаль о них была умеренна. Больше чем рубашек и одежды, мне было жаль сейчас, например, моих старых, солидных ножниц для бумаги, предмета каждодневного обихода, который я почти сорок лет тысячи раз держал в руке, или даже большого, мягкого, шерстяного пледа, подарка и рукоделья жены моего прежнего берлинского издателя. Этим чудесным пледом одарила она меня в Энгадине в благополучные времена, затем опять разразилась «великая эпоха», милый старый С. Фишер успел еще вовремя умереть, но его жене, старой ламе, пришлось сначала в Берлине вынести множество мук и унижений, потом она эмигрировала в Швецию, но и там ее не оставили в покое, она бежала на самолете через Москву и Японию в Америку, и я не знаю, жива ли она еще. Плед я называл про себя «паркетом» или «альпийской палаткой», потому что он был сшит из светло-коричневых и темно-коричневых квадратов. Он служил мне когда-то верой и правдой в горные зимы, а потом в иные прохладные вечера и дни, когда отопление оставляло желать лучшего; я заплатил бы больше его реальной стоимости, чтобы вернуть его.
Кстати, что касается «реальной стоимости» моих пожитков, то, определяя ее, я не переставал пугаться и ужасаться. О нынешних ценах мы узнавали либо с помощью торговых каталогов, либо справляясь по телефону, и, глядя на эти фантастические цифры, можно было подумать, что до кражи чемодана я был прямо-таки богачом. Одни только рубашки стоили почти четыреста франков, носки — немного больше ста, а сам мой старый добрый чемодан, если бы можно было сегодня достать чемодан такого, как прежде, качества, стоил бы минимум двести франков. Любой предмет стоил сегодня в денежном выражении во много раз дороже, чем тогда, когда я его приобрел. Глядя на цены, нельзя было не вспомнить о начале великой инфляции в конце первой войны. Не было или почти не было вещей, цены на которые оставались такими же, как пять, а тем более десять лет назад, все стало дорого, драгоценно, недоступно для маленьких людей. Но, к счастью, обнаружились и ценности, которых не коснулось это бешеное подорожание, и даже такие, которые стали во много раз доступнее. Если, например, десять лет назад поэт посылал какое-нибудь свое стихотворение в редакцию, он получал ровно, пожалуй, втрое больший гонорар, чем получит за это сегодня. При всей бедственности положения я обрадовался этому открытию, ибо во мне всегда что-то восставало против исторического материализма, который считает, что духовная жизнь так же зависит от материальных благ, как и экономическая. Плата за стихотворение упала за несколько лет на одну треть — но разве редакции испытывали сейчас недостаток в стихах? О нет, стихов у них хватало с избытком, и это была милость, если они вдруг печатали какое-нибудь стихотворение. Но как обстояло дело с качеством стихов? Может быть, оно снизилось и было виной девальвации? Это установить не удалось.
Наконец мы закончили свой список. Иные мелочи мы не сразу решились внести в него, например наши очень простые шахматы; но и мелочи эти стоили теперь сумм, которые нам следовало попытаться спасти. Принесут ли наши усилия какую-нибудь пользу, было, правда, весьма неясно. Допустим, железная дорога полностью признает мое право на возмещение пропавшего — но кто решит, соответствует ли мой список действительности и правомерны ли мои притязания. Будь я жуликом, я мог бы присочинить и приписать дорогие часы, две пары золотых запонок и еще что-нибудь, бумага все стерпит. Как и в какой инстанции разрешатся возможные разногласия? Будет ли тут какая-нибудь польза от адвоката? И во что он обойдется? Ах, в какую дурацкую, в какую гадкую историю я влип. До процесса я, во всяком случае, дела не доведу; я дожил до старости, не судившись ни разу.
Прошел очень неприятный день. И что же станется с нашими рождественскими праздниками? Даже этот фатальный список не был готов полностью, цены на некоторые важные предметы, в том числе на пишущую машинку, нам еще не удалось выяснить. Расстроенные, мы легли спать.
На следующее утро ко мне постучали. Я еще лежал в постели. Жена, со странно веселым лицом, вошла и спросила:
— Кто бы, ты думал, нашелся?
Это был чемодан. Станция Лугано сообщила: пропавший чемодан по ошибке отправили назад в Баден. Кто это сделал и почему, выяснить не удалось. По-видимому, чемодан сам, относясь, как и мы, с недоверием к этому возвращению домой, улучил минуту, когда его оставили без присмотра, снова сел в вагон и поехал опять в Баден. Завтра или послезавтра он вернется оттуда и потом будет доставлен нам.
Теперь мы стояли и глядели друг на друга. Все эти дни мы заполнили противными и ненужными делами, досадой, сожалением, хлопотами, телефонными звонками, писаниной, составлением знаменитого списка. Мы стыдились и радовались, смеялись и умилялись. Но впервые после неприятного возвращения было действительно отрадно сознавать, что мы опять дома. И впервые в этом году мы действительно поверили, что на носу Рождество, и порадовались ему.
Сегодня ночью фён беспощадно гулял по терпеливой земле, по пустым полям и садам, продувал сухие лозы и голый лес, дергал каждую ветку, каждый сучок, ревел и шипел перед каждым препятствием, наполнял фикус костяным треском, высоко вздымал вихрями облака увядших листьев. Утром они лежали большими, опрятно наметанными, ровными горками за каждым углом и каждым выступом стен, где можно было укрыться от ветра.
И выйдя в сад, я увидел, что случилась беда. Самое большое из моих персиковых деревьев лежало на земле, оно сломалось в самом низу ствола и упало с крутого склона виноградника. Они ведь не очень долго живут, эти деревья, они не принадлежат к исполинам и героям, они нежны, уязвимы, крайне чувствительны ко всякому повреждению, в их смолистом соке есть что-то от старой, донельзя культивированной аристократической крови. Упавшее дерево не было ни особенно благородным, ни таким уж прекрасным, но все же это было самое большое из моих персиковых деревьев, старый знакомый и друг, более давний жилец этого участка земли, чем я. Каждый год вскоре после середины марта оно распускалось, выделяясь на синеве ясного неба своей пенистой, расцветшей розовым кроной сильно и резко, а на сером небе ненастья — до бесконечности нежно, оно качалось под порывами ветра свежих апрельских дней, вспыхивая золотым огнем бабочек-лимонниц, сопротивлялось злобному натиску фёна, задумчиво затихало в мокрой серости дождей, слегка склонившись и глядя себе под ноги, туда, где с каждым дождливым днем трава на откосе виноградника делалась все зеленей и жирней. Бывало, я приносил его цветущую веточку домой, в свою комнату, бывало, помогал ему, когда тяжелели плоды, подпоркой, а в прежние годы, бывало, пытался — что довольно нагло с моей стороны — написать его красками в пору цветения. Оно стояло здесь во все времена года, заняв определенное место в моем малом мире и став неотделимым от него, видело вместе со мной жару и снег, бури и тишь, вносило свои ноты в песню, свои оттенки в картину, оно постепенно поднялось намного выше кольев для лоз и пережило не одно поколение ящериц, змей, мотыльков и птиц. Оно ничем не выделялось, не пользовалось каким-то особым вниманием, но без него нельзя было обойтись. В пору созревания плодов я каждое утро сворачивал к нему со ступенек тропинки, поднимал с влажной травы упавшие за ночь персики, приносил их в кармане, корзинке или даже в шляпе наверх, домой, и клал на солнце на парапет террасы.