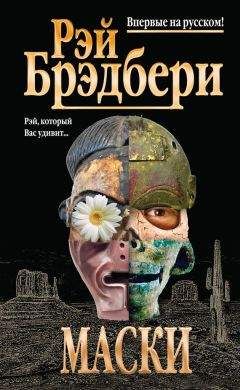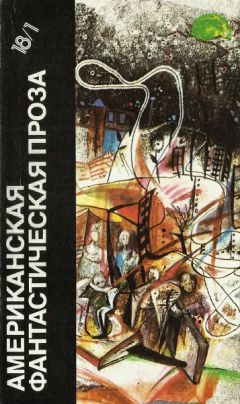— Всем сердцем.
Она чувствовала себя как печь зимним утром, когда все угли погасли, а все поленья остыли и заиндевели.
— Что такое? — спросил он.
Она сидела, а вокруг все качалось, но на сей раз ей было действительно плохо. Мир провалился в бездну.
— Скажите же что-нибудь, — умолял он ее.
— Вы любите мою сестру, — произнесла она.
— Как вы это говорите.
— А я люблю вас, — сказала она.
— Что?
— Я люблю вас, — повторила она.
— Постойте, постойте, — пробормотал он.
— Вы что, не слышали? — спросила она.
— Я не понимаю.
— Я тоже, — сказала она, сидя прямая как стрела. Теперь дрожь прекратилась, и холод полился из глаз.
— Вы плачете, — сказал он.
— Как глупо, — продолжала она. — Вы думаете обо мне так же, как она думает о вас.
— О нет, — запротестовал он.
— Да, да, — сказала она, не вытирая слез рукой.
— Этого не может быть, — чуть не кричал он.
— Это так.
— Но я люблю ее, — возразил он.
— А я люблю вас, — ответила она.
— Вам не кажется, что и в ней есть маленькая искорка любви ко мне? — поинтересовался он, высовываясь на свет веранды.
— А вам не кажется, что и в вас могла бы быть маленькая искорка любви ко мне? — спросила она.
— Возможно, я смогу что-то с этим поделать.
— Никто из нас ничего не может с этим поделать. Все любят не тех, кого надо, все ненавидят не тех, кого надо.
Она расхохоталась.
— Не смейтесь.
— Я не смеюсь.
Ее голова запрокинулась назад.
— Прекратите!
— Сейчас, — прокричала она сквозь хохот, глаза ее были мокры от слез, и он тряс ее за плечо.
— Перестаньте! — прокричал он ей прямо в лицо, уже стоя. — Пойдите и попросите вашу сестру выйти, скажите, что я хочу поговорить с ней!
— Скажите ей сами, пойдите и скажите ей сами.
Она продолжала хохотать.
Он надел шляпу и стоял в замешательстве, глядя, как она хохочет, раскачиваясь на качелях, бесчувственный, как кусок холодного железа, и смотрел на дом.
— Прекратите! — закричал он.
Он снова принялся трясти Лидию, но тут чей-то голос вмешался:
— А ну перестаньте!
Он обернулся: за сетчатой дверью в прохладном сумраке, как бледное, расплывчатое меловое очертание, стояла Хелен.
— Отойдите от нее, оставьте ее в покое. Уберите от нее свои руки, мистер Ларсен.
— Но Хелен!.. — запротестовал он, подбегая к двери.
Дверь была закрыта на крючок, и Хелен хлопнула по сетке, словно выбивая из нее застрявших мух, задержавшихся до позднего лета.
— Уйдите, пожалуйста, с веранды, — сказала Хелен.
— Хелен, позвольте мне войти!
«Джон, вернись!» — думала Лидия.
— Забирайте свою шляпу и уматывайте, считаю до десяти.
Он стоял на темной веранде между двух холодных женщин. Минули и лето, и осень. Невидимый снег падал на его плечи, и ветер повеял из глубины дома.
— Как это все случилось?
Он медленно обвел взглядом все вокруг. Отчего-то Хелен почудилось, будто он стоит на берегу, а корабль, то есть дом, уносит ее в даль осеннего моря, и никто не машет рукой на прощанье, но все расстаются друг с другом навсегда. Она не могла точно сказать, каким он ей кажемся: мужественным или нелепым. Море трубило к свой огромный рог, и корабль плыл все быстрей и быстрей, а он, покинутый, стоял на зеленом берегу, держа в руках шляпу и глядя в нее, будто надеясь увидеть там всю свою жизнь, и размер на ярлычке был очень мал, и цена весьма невысока. Руки у него дрожали. Он был словно пьяный от постигшего его удара. Его шатало. Веки дрожали на бледном лице.
— Доброй ночи, мистер Ларсен, — сказала Хелен откуда-то из темноты.
Лидия молча, без сил, покачивалась на качелях. Она не смеялась, не плакала, а просто смотрела, как погруженный во тьму мир скачет меж звезд в одну сторону, а белая луна — в другую, это было просто бесчувственное тело, раскачивающееся вверх-вниз, с опавшими руками, и слезы высыхали на ветру, всколыхнувшемся от ее мерного движения.
— Прощайте.
Дойдя до середины лужайки, мистер Ларсен споткнулся и упал. Он посидел так с минуту, словно утопающий, воздев к небу руки. Затем встал и побежал по улице прочь.
Когда он ушел. Хелен открыла дверь, тихонько вышла и села на качели.
Так они молча качались, минут десять. Потом Хелен сказала:
— Ты ведь не сможешь перестать любить его, да?
Они качались в темноте.
— Да.
Еще минуту спустя Лидия спросила:
— А ты, ты ведь не сможешь полюбить его, верно?
Хелен отрицательно покачала головой.
Следующая мысль пришла к ним в голову одновременно. Одна начала говорить, а другая закончила:
— А он, он ведь не сможет…
— …перестать любить тебя, Хелен.
— …и полюбить вместо меня тебя, Лидия?
Оттолкнувшись, они пустили качели в виноградно-тенистую ночь и, лишь четырежды качнувшись туда-обратно, сказали:
— Нет.
— Я представляю нас с тобой, — произнесла Хелен. — Боже, я так и вижу нас двадцать, тридцать лет спустя. Ты и я выходим вечером прогуляться по городу. Идем по Главной улице, разговариваем, одни. Подходим к табачной лавке. А он там. Джон Ларсен, один-одинешенек, сидит под лампой, разворачивает сигару. И мы вроде замедляем шаг, а он, завидев нас, бросает раскуривать свою сигару. И я смотрю на него тем же взглядом, что и теперь. И ты смотришь на него тем же взглядом, что и теперь. И он смотрит на тебя тем взглядом, которым он только и может смотреть на тебя. А на меня — тем же дурацким взглядом, каким он смотрел на меня сегодня. И вот мы останавливаемся перед ним и киваем. А он приподнимает шляпу. Он лыс. А мы с тобой седы. А потом мы идем дальше. Под ручку. Ходим по магазинам и весь вечер гуляем по городу. А когда два часа спустя мы идем обратно домой, он все еще стоит там, один, глядя в пустоту.
Тихий ангел пролетел между ними.
Так они и сидели, неподвижно, думая о предстоящих тридцати годах.