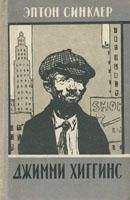Потом пришли члены кружка немецкой песни — репетировать программу концерта. Товарищ Хиггинс был бы очень не прочь посидеть и послушать, но кто-то вдруг обнаружил, что нет клея, и он помчался разыскивать какой-нибудь магазинчик, открытый в воскресенье.
Позднее, когда наступило затишье, Джимми внезапно почувствовал, что он голоден. Обследовал содержимое своих карманов: всего семнадцать центов. Идти домой — далековато. Проще забежать к Тому, тут же рядом, за углом, и выпить чашку кофе с булочками. Но прежде чем уйти, Джимми добросовестно спросил, не нужно ли кому еще чего-нибудь, и товарищ Мейбл Смит попросила его вернуться поскорее — помочь ей разложить листовки по креслам, и товарищу Мейснеру он тоже скоро понадобится—расставить стулья на сцене.
Если выйти из здания лисвиллской Оперы, повернуть на запад и пойти по главной улице города, Мейн-стрит, то сначала будет кафе Гейнца — не для таких, как Джимми, конечно, а для шикарной публики,— подальше «Бижу никл одеон» с пианолой у входа, потом обувной магазин «Бон марше», в котором без конца объявлялись распродажи: то по случаю пожара, то по случаю переезда в другое помещение или же банкротства; затем Кино-дворец Липского с коричнево-желтым ковбоем на фасаде, скачущим во весь опор, держа желто-красную девицу в объятиях, и, наконец, бакалейная лавка Грогана на углу. И во всех витринах были выставлены плакаты с портретом кандидата и объявлением о том, что в воскресенье в восемь часов вечера он выступит в здании лисвиллской Оперы с речью: «Война, ее причины и борьба за ее прекращение».
Джимми Хиггинс старался смотреть на эти плакаты с видом сдержанного достоинства, но в душе его поднималось неудержимое чувство радости: ведь это он, Джимми, вел переговоры с владельцами магазинов и добился, чтобы те согласились, хотя и довольно неохотно, выставить плакаты.
Он шел и думал о том, что сегодня во всех городах Германии, Австрии, Бельгии, Франции, Англии миллионы, десятки миллионов рабочих соберутся на митинги протеста против кровавой бури войны, разразившейся над миром. Клич раздастся в Америке — он понесется от Нового Света к Старому, призывая рабочих подняться и сдержать свою клятву: предотвратить это преступление против человечества. У него, Джимми Хиггинса, нет дара убеждать, он не может заставить людей прислушаться к его словам. Но зато он помог жителям города услышать человека, который обладает таким даром и сумеет растолковать рабочим, что послужило причиной этой мировой катастрофы.
То был кандидат их партии на пост президента. Предстояли, правда, всего лишь выборы в конгресс, но этот человек столько раз бывал кандидатом на пост президента, что никто и не представлял себе его иначе как в этой роли. Его избирательные кампании, можно сказать, длились по четыре года каждая — от выборов и до выборов; он исколесил страну вдоль и поперек. Миллионы людей слышали его пламенные речи. И как раз сегодня, когда кандидат должен был выступить с речью в лисвиллской театре, военные и денежные тузы Европы решили погнать своих рабов на бойню. Не удивительно, что социалисты провинциального городка были в таком волнении!
Джимми Хиггинс свернул за угол и вошел в «буфетерию» Тома; поздоровался с владельцем, сел у стойки и заказал себе кофе и несколько булочек, которые почему-то назывались «грузилами», хотя скорее их надо было бы назвать «поплавками»—столько в них было воздуха, в этих булочках. Набив себе рот, Джимми взглянул, не снял ли Том, чего доброго, плакат с объявлением о митинге. Ведь этот Том — католик. Между прочим, Джимми приходил сюда отчасти для того, чтобы поспорить с ним и его клиентами насчет эксплуатации и прибавочной стоимости.
Однако на этот раз, еще до того как начался традиционный спор, Джимми огляделся по сторонам. В глубине комнаты стояли четыре накрытых клеенкой столика, где подавались блюда на заказ. За одним из них сидел человек. Джимми взглянул и вздрогнул так, что едва не расплескал кофе. Не может быть! И все же... Ну, конечно! Как не узнать это лицо! Лицо средневекового подвижника, худое, аскетическое, но вместе с тем не лишенное мягкости, присущей человеку нового времени. И потом эта лысая маковка, сияющая над венчиком волос, словно месяц над прерией. Джимми пристально посмотрел на портрет кандидата, который венчал собою гору пирожков, потом снова на человека за столиком; тот поднял глаза, и взгляд его встретился со взглядом Джимми, полным благоговейного изумления. В этом взгляде была целая повесть, и притом такая красноречивая! В особенности для кандидата, который разъезжает по всей стране, произнося речи, и привык, что его то и дело узнают по плакатам незнакомые люди. Губы его дрогнули в улыбке, и Джимми встал, поставил трясущейся рукой чашку с кофе и положил свое «грузило» на стойку.
У Джимми не хватило бы храбрости подойти, если бы тот, другой, не улыбнулся — усталой, но открытой и приветливой улыбкой.
— Здравствуйте, товарищ! — произнес он, протягивая руку, и мгновение, пока длилось это рукопожатие, было самым небесным в жизни Джимми, самым счастливым.
— Но ведь вы должны были приехать в пять сорок две!..— выпалил Джимми, обретя дар речи.
Как будто кандидат и сам этого не знал! Дело в том, объяснил он, что ему не удалось выспаться ночью, и потому он приехал пораньше — урвать для сна часок-другой днем.
— Понятно! — сказал Джимми и добавил: — А я узнал вас по портрету.
— Да? — вежливо удивился тот.
В голове у Джимми все на свете перемешалось, и он тщетно силился сказать что-нибудь такое нужное, важное.
— Вы, наверно, хотите повидать кого-нибудь из комиссии?
— Нет,— ответил кандидат.— Я хочу сначала позавтракать.
И он принялся за бутерброд и молоко.
Джимми был настолько ошеломлен, что так молча и просидел, как истукан, пока кандидат не закончил своей трапезы. А после этого, не найдя ничего лучшего, спросил
еще раз:
— Вы, наверно, хотите повидать кого-нибудь из комиссии?
— Нет,— последовал ответ,— я хочу посидеть здесь и поговорить с вами, товарищ... товарищ?..
— Хиггинс.
— Товарищ Хиггинс — если, конечно, у вас есть время.
— Да что вы! — заволновался Джимми.— Да у меня сколько угодно времени. Только ведь комиссия...
— Оставьте вы эту комиссию в покое, товарищ Хиггинс. Знаете, сколько комиссий я перевидал за эту поездку?
Джимми, разумеется, не знал, а спросить не хватало смелости.
— Никогда, верно, не задумывались, каково это быть кандидатом? Ездишь вот так с места на место, и кажется, будто каждый раз произносишь одну и ту же речь, и спишь в одном и том же отеле, и встречаешься с одной и той же комиссией. А ведь для каждой аудитории твоя речь новая, и сказать ее надо так, словно произносишь ее впервые. И потом ведь комиссия состоит из самых преданных товарищей. Они, можно сказать, не жалеют ничего ради нашего дела. Им не скажешь, что они, мол, решительно ничем не отличаются от любой другой комиссии, или что ты устал, как собака, или что у тебя, скажем, голова болит...
Джимми сидел, глядя во все глаза и храня благоговейное молчание. Не будучи человеком начитанным, он никогда не слыхал, как «тяжек венец избранника». Впервые довелось ему заглянуть вглубь величия.
Кандидат продолжал:
— К тому же эти вести из Европы. Мне нужно еще прийти в себя... собраться с силами...
Голос у него стал глухим, и Джимми казалось, что все горести на свете заключены в усталом взгляде его серых глаз.
— Я, пожалуй, пойду,— сказал Джимми.
— Нет, нет! — запротестовал кандидат, встряхнувшись и придя в себя. Он заметил, что Джимми забыл про свой завтрак.— Несите-ка сюда ваше кофе и все остальное,— сказал он; и Джимми принес свою чашку и проглотил остатки «грузила» на глазах у кандидата.
— Мне нельзя говорить,— сказал тот.— Слышите, совсем охрип. Лучше вы говорите. Расскажите о вашей организации. Как тут у вас идут дела? Это была та единственная тема, на которую Джимми мог говорить, это было то, что владело его душой и мыслями. И, набравшись мужества, он начал рассказывать.
Лисвилл — типичный промышленный городок, с бутылочным и пивоваренным заводами, фабрикой ковров и крупным машиностроительным заводом «Эмпайр», которому Джимми отдает еженедельно шестьдесят три часа своей жизни. Конечно, рабочие еще не пробудились по-настоящему, но жаловаться не приходится—движение растет. В местном отделении партии уже ни мало ни много, а сто двадцать членов, хотя по-настоящему рассчитывать можно человек на тридцать.
— Всюду так,— заметил кандидат,— всегда лишь небольшая кучка самоотверженных людей двигает все дело.
Затем Джимми рассказал о предстоящем митинге. Немало было у них хлопот и затруднений. Полиция неожиданно решила ввести в силу закон, запрещающий разносить по домам объявления, хотя универсальному магазину Айзэка она позволяла извещать таким образом своих клиентов. Полицейская мера была восторженно встречена местными газетами — «Геральд» и «Ивнинг курир». Оно и понятно: ведь если нельзя разносить объявления, их придется печатать в газете. Кандидат улыбнулся— он-то знал, что такое американская полиция и что такое американская пресса.