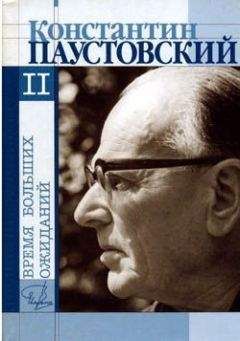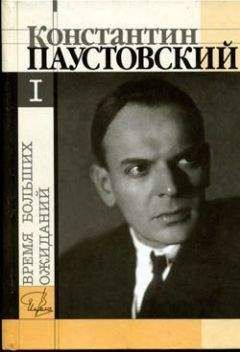Столь субъективный подход у Паустовского проявляется не только в романах и повестях, но даже в путевых очерках. Таким очеркам, кстати, он всегда придавал особое значение.
В 1956 году отец совершил плавание вокруг Европы на теплоходе «Победа». Это был первый такого рода туристический круиз после «сталинской стужи». В числе спутников отца оказался писатель Даниил Гранин, который, много позже вспоминая об этом плавании, поделился несколькими очень ценными наблюдениями. Гранин сравнивает один из последующих путевых очерков отца с реальной обстановкой поездки: «В очерке про Неаполь «Толпа на набережной» Паустовский ведет рассказ так, будто только он приехал в Неаполь. Нас там нет. Все приключается с ним одним, одиноким путешественником. В поездке с нами он втайне совершал и другое путешествие – без нас. Как бы самостоятельно, без огромной толпы туристов. Как бы сам останавливался в отелях, знакомился, попадал в происшествия, не торопясь наблюдал чужую жизнь. Он путешествовал больше, чем ездил. Его любимцем был Миклухо-Маклай – «человек, обязанный путешествиям силой и обаянием своей личности». Он любил вспоминать Пржевальского, Нансена, Лазарева, Дарвина».
Здесь подмечена еще одна очень важная особенность отношения Паустовского к окружающему, о которой он сам как-то сказал так: «Жить нужно странствуя…»
Не случайно путешествие всегда было его стихией, его мировоззрением. Этому уделено немало места на страницах «Повести о жизни». Даже заключительные ее части носят «чисто путевые» названия – «Бросок на юг», «Книга скитаний».
За такими названиями как бы видятся «обширные географические пространства». Но в действительности ведь речь шла лишь о поездке из Одессы на Кавказ, а оттуда – в Москву. Затем автор оседает в рязанской глуши и заново открывает для себя Среднюю Россию – «срединную», как он любил говорить. Правда, в «Книге скитаний» он еще вспоминает о поездках на Каспий, в Карелию и на Урал. Вот и все.
Но писатель, сталкиваясь со многими явлениями послереволюционной действительности, осмысливает их по-новому и обогащает свой опыт. Таким образом, путешествия двух последних частей романа осуществляются не столько вовне, сколько «внутрь себя».
Каждая автобиографическая книга подобна айсбергу. Огромный пласт событий остается как бы «под водой», в глубинах памяти автора. Причины здесь самые разные – и объективные, и субъективные. «Повесть о жизни» – не исключение.
Иногда писатель все же опускается поглубже в свой «подводный мир» и, может быть неожиданно для себя, решается «вывести в свет» отдельные заветные воспоминания. При этом он старается пропускать их сквозь призму воображения. Так ему легче к ним прикасаться. Немалую роль играет и «закон дистанции» – нужно достаточно отдалиться от пережитого. Однако для этого не всегда хватает человеческой жизни.
И снова сошлюсь на рассуждения Д. Гранина, который, по существу, общался с отцом во время плавания не так уж много, но затем, уже со своей «дистанции», сделал точные обобщения. Проявив должную интуицию, он пишет: «Паустовский знал жизнь, знал неплохо, но ему надо было отдалиться, чтобы черты ее не резали глаза; поодаль она теряла ту обязательность, когда остается лишь обводить увиденное. Если ему удавалось найти нужную дистанцию, можно было рисовать свое, воображаемое…» И еще: «О самом сокровенном, личном он избегал писать. Оставлял для себя. Нельзя все для печати».
Последнее замечание Гранина, очень точное, неожиданным образом возвращает нас к автобиографической книге Бердяева. Эта книга написана достаточно обстоятельно и подробно. Автор даже подчеркивает свое стремление к тому, «чтобы память победила забвение ко всему ценному в жизни». Однако в одном Бердяев проявляет большую сдержанность:
«Но одно я сознательно исключаю: я буду мало говорить о людях, отношение с которыми имело наибольшее значение для моей личной жизни и моего духовного пути. Но для вечности память наиболее хранит это…»
Здесь нет никакого секрета. Бердяев имеет в виду прежде всего двух спутниц своей жизни – сестер Лидию и Евгению Рапп. Лидия стала его женой, но после ее смерти преданным другом философа оставалась Евгения. Ей и посвящено «Самопознание».
Нельзя сказать, что о сестрах совсем не упоминается на страницах его книги. Но это именно упоминания, сводящиеся к нескольким справочным сведениям, не более. Видимо, потому, что сама тема по своему значению требовала отдельного глубокого освоения, которое автор так и не решился, а может быть, не собрался или не успел предпринять.
И снова – совпадение. Как и у Бердяев, немалая роль в духовном и творческом становлении Паустовского выпала на долю двух сестер – Екатерины и Елены Загорских. И точно также мы напрасно будем искать документальные подробности об этом на страницах книги, но очень многое узнаем из писем и дневников.
С младшей сестрой – Екатериной – будущий писатель познакомился осенью 19Н года в санитарном поезде. Она была сестрой милосердия, он, как тогда говорили, – братом милосердия, или попросту – санитаром. Увлечение переросло в роман и завершилось женитьбой. В дальнейшем покровительницей этого брака стала старшая сестра Екатерины – Елена, или Леля, как ее звали по-домашнему. К сожалению, она умерла от скоротечного сыпного тифа в 1919 году когда супруги Паустовские жили уже в Одессе (книга «Время больших ожиданий»).
Образ своей первой жены – Екатерины Степановны Загорской-Па-устовской (моей матери) – отец воплотил в ряде произведений и прежде всего в повести «Романтики», где называет ее так же, как в письмах и дневниках, – Хатидже.
Однако героиня «Повести о жизни» – неожиданно умирающая на фронте от оспы сестра милосердия Леля, – несмотря на некоторые черты Екатерины Загорской, имеет другой прототип. Точнее, это образ собирательный. Обстоятельно я еще вернусь к этой важной теме, а пока на ближайших страницах буду касаться ее лишь вскользь, в связи с разговором о так называемом «сознании писателя».
Знакомство с литературным воплощением жизненного пути отца привело меня к мысли, что понятие «сознание писателя» может быть отнесено ко многим пишущим людям и имеет право на самостоятельное существование. Речь идет опять же о некоем «психологическом единстве», для определения которого вполне подходит этот обобщенный термин.
Так, одной из непременных составляющих понятия «сознание писателя», по-моему, является чувство ответственности, прежде всего перед страной и ее народом. Причем это чувство питается не только рассудком. Оно во многом природно, идет к нам от родной земли, буквально от почвы, по которой мы топаем в детстве босыми ногами.
Для отца в понятии «сознание писателя» в равной степени сплелись два начала – личное и общественное. Может, потому он, человек, которого нередко упрекали в аполитичности, повинуясь своему чувству ответственности, первым среди литераторов (да, пожалуй, и политиков) открыто сказал об опасных свойствах высокой партийной номенклатуры. И первый употребил этот термин в чисто негативном смысле.
Это было в октябре 1956 года на обсуждении в Доме литераторов нашумевшего романа Дудинцева «Не хлебом единым». Отец считал, что именно в результате формирования класса номенклатуры – наследницы худших черт дореволюционной бюрократии – в нашей стране произошла полная трансформация слова «социализм». Это слово превратилось в ширму для маскировки эгоизма, жадности и ограниченности пробравшихся к власти чиновников, связанных круговой порукой. Утверждение отца актуально и сейчас. Может, даже в большей степени, чем тридцать с лишним лет назад.
«Сознание писателя» – не случайность, не фикция, что это нечто стабильное, не подчиняющееся ни моде, ни политическим убеждениям или социальным факторам.
Для подтверждения этого достаточно вспомнить о реакции русской литературы на Октябрьскую революцию. Социалистические идеи всегда разделялись лучшей частью русской интеллигенции, не исключая и писателей. Почему же многие из них не только не приняли Октябрь, но и прокляли его самым решительным образом? «Общественному сознанию» потребовалось для этого более семидесяти лет. Или писатели уже тогда интуитивно почувствовали, что социализм и большевизм – далеко не одно и то же? И, может быть, их интуиция шла еще дальше, распознав за большевизмом зримые черты фашизма, хотя в те годы такого термина еще не существовало?
Характерно, что писатели были далеко не единомышленники в политическом отношении, к тому же в самих идеях Октября было немало объективно привлекательного. Несмотря на это, реакция «сознания писателя» оставалась глубоко негативной. Достаточно упомянуть такие имена, как Бунин, Короленко, Куприн, Мережковский, Андреев, Зайцев… Весь цвет русской литературы того времени.
Паустовский в те годы был всего лишь начинающий литератор, но его отношение к большевизму и Ленину ничем не отличалось от оценок «маститых». Со временем жизнь внесла сюда свои коррективы, но только в деталях. В целом мнение сложилось изначально. Оно подтверждается дневниками и письмами отца, доверительными беседами с ним.