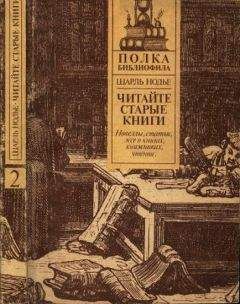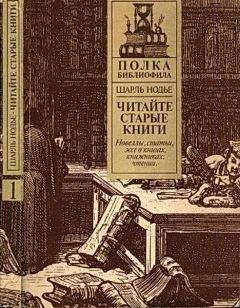По этой причине мой ученый друг господин Брюне не колеблясь причисляет это сочинение к самым плоским и ничтожным из всех бездарных опусов такого рода — что, впрочем, он мог бы с тем же, если не с большим, основанием сказать почти обо всех виршах, до которых мы с ним оба большие охотники. ”Плоский”, конечно, слово в высшей степени подходящее, точней не скажешь. Что же до ничтожности, то, охраняя честь собственной статьи, я вынужден не согласиться с этим определением. К тому же до наших дней эта книжонка дошла в таком ничтожном количестве экземпляров, что библиофилы ценят ее дороже самых умных и блестящих книг — недаром у нас в 1815 году она была продана за тридцать один ливр, в Лондоне ее недавно оценили в целых шесть гиней, а нынче в книжной лавке нашего милейшего Текне за нее возьмут всего-навсего шестнадцать или восемнадцать пистолей{179}, и так будет продолжаться до тех пор, пока наша книжка не станет снова, как некогда, стоить свое законное одно су, а случится это, судя по всему, не прежде, чем книги нынешних стихоплетов станут продаваться за две сотни франков каждая. Habent sua fata libelli! [32]
Чтобы покончить с вакхической темой tabernis, cauponis et popinis[33], скажу, что, как это ни странно, я без всякого труда могу снабдить вас почти столь же подробными сведениями о расположении и названиях главных кабачков и трактиров, потчевавших в году от рождества Христова 1635-м жителей нашей столицы. Заведения эти были всего на один этаж выше, чем в Руане, но зато могли похвастаться такими почетными гостями, как Сирано, Сент-Аман или Фаре{180}. Впрочем, ”Сосновая шишка”{181} в ту пору утратила великолепие, которым отличалась во времена Ренье и даже во времена Рабле; чтобы завсегдатаи вновь повалили толпой в этот кабачок неподалеку от моста Пресвятой Девы, напротив церкви Мадлен, требовался такой выгодный клиент, как Шапель, который однажды, встретив неподалеку от ”Сосновой шишки” Буало{182},
… разбив его лампаду,
Взамен ему налил стакан.
Невзгодами ”Сосновой шишки” поспешил воспользоваться ее ближайший сосед ”Чертенок”, не унаследовавший, впрочем, и малой толики ее известности.
От ”Чертенка” было рукой подать до ”Упрямой башки”, что располагалась сразу за Дворцом правосудия.
В ту пору и поклонники изящных искусств, и ревностные слуги Господни любили вкусно поесть; богомольцев, побывавших на мессе в церкви Святого Евстахия, ждали вкусные обеды у Кормье; любители театра, очарованные великолепным красноречием Беллероза, любили по выходе из ”Бургундского отеля” посидеть под ”Тремя молотками” и с приятностью окончить здесь день, с не меньшей приятностью начатый у ”Святого Мартина”, в ”Королевском орле” или у ”Богатого землепашца”, неподалеку от братства Святого Матюрена. ”Кламар”, прежде так любимый гурманами, вышел из доверия по вине нового хозяина, грешившего против хорошего вкуса, и его посещала только голытьба.
Сутяги и судейские предпочитали ”Большой рог” и ”Стол доблестного Роланда”, заведение в своем роде историческое, ибо оно, если верить легенде, помнило этого славного рыцаря, а также лелеяло предание о том, что в этих стенах собрались на свой последний пир двенадцать пэров{183} Карла Великого.
Из страха перед судебным приставом некоторые несчастные жертвы крючкотворства забирались подальше и расставались с последними сбережениями в надежной сени ”Галеры” или ”Шахматной доски”.
Царедворцы, которых тщеславие или дела надолго задерживали в Лувре, ели и пили в свое удовольствие у ”Бондарки”, однако поэтам и прочим птицам небесным это место было не по вкусу. ”Бондарка” никогда ничего не отпускала в долг, а за обед брала десять турских ливров{184} — сумму по тем временам огромную.
”Три бочки” славились превосходным бонским вином — тогдашние знатоки находили, что это лучшее из французских вин, не уступающее ни испанским, ни итальянским.
В районе улицы Май к вашим услугам были ”Экю” и ”Бастилия”, но самой большой популярностью из всех таверн квартала Маре пользовалась ”Перевязь”. Именно хозяин этого восхитительного заведения, прогрессивнейший человек на земле, изобрел ”отдельные кабинеты”. Цивилизация делала первые шаги. То был год, предшествовавший постановке ”Сида”{185}. Это величественное создание (я имею в виду ”отдельные кабинеты”, а не трагедию Корнеля) затмило даже ”Малый трактир Святого Антония”, известный отменной простотой нравов, даже прославленные ”Факелы”, мерцавшие на кладбище Святого Иоанна, даже ”Три кегли” с улицы Медведя, которые на протяжении многих лет не знали себе равных. Так проходит мирская слава.
Для любителей ездить на воды добавлю, что в эту же пору, столь знаменательную в анналах парижской статистики, наяды Бургундского источника и даже источника Святой Женевьевы, таившего в себе надежное средство против лихорадки, были решительно заброшены ради целомудренных Аркейских нимф{186}.
А если вы полагаете, что я извлек эти прелестные и занимательные исторические подробности из Коррозе или Дюбреля, Соваля или Фелибьена, Лебефа или Сен-Фуа, Юрто, Маньи или Пиганьоля, Жайо или Мартине, Мерсье или Ландона, Дюлора или Сен-Виктора{187}, то вы слишком высокого мнения о моих скромных возможностях. Дай Бог здоровья всякому, кто читал хоть одного из этих авторов, что же до меня, то все вышеизложенные познания почерпнуты из одной напрочь забытой старой книжонки, именуемой ”Восхитительные видения парнасского паломника, или Приличные и любопытные развлечения. Сочинено одним из нынешних остроумцев” (Париж, у Жана Гесслена, 1635, 8°, 254 страницы). Я счел своим долгом помянуть добрым словом эту в самом деле крайне любопытную книгу, на которую никто до сих пор не удосужился обратить внимание.
Добрейший Клод Фоше{188} заметил на 209-й странице своих ”Истоков французского языка и французской поэзии”: ”Нет такого ничтожного автора, который не способен принести пользу, хотя бы как свидетель своего времени”.
Читайте старые книги!
Сатиры, опубликованные в связи с первым изданием
Словаря Французской академии
Перевод В. Мильчиной
Нет ничего легче, чем критиковать словарь. Причина тому очень проста: образцовый словарь должен содержать все, из чего состоит язык, — все его слова, все идиомы, все толкования этих слов и примеры на каждое из этих толкований; между тем в мире не найдется не только человека, но и сколь угодно обширного и тщательно подобранного научного общества, которое знало бы все слова без исключения и могло без ошибки истолковать их смысл. Лет двадцать назад пять сотен государственных мужей{189}, собравшихся ad hoc[34] три заседания подряд обсуждали значения двух глаголов, самых понятных в любом языке (насколько я помню, это были глаголы ”предупреждать” и ”подавлять”) и расстались, так и не придя к единому мнению. Четвертое заседание принесло бы еще меньше пользы; о сотом нечего и говорить. Даже если бы гении и мудрецы всех времен и народов занимались подобным делом до скончания века, они наверняка упустили бы из виду мелочи, известные любому школьнику. Такова судьба языков и словарей.
Поэтому неудивительно, что Словарь Французской академии еще не успел выйти в свет и даже еще не был окончен, когда первые недоброжелатели обрушили на него свои нападки. Критика их была нередко справедливой, потому что, когда речь идет о словаре, ”критика легка”{190}, как никогда, — и всегда злой, потому что литераторы, не принятые в Академию, хотя многие из них были этого вполне достойны, не могли смотреть на литературных аристократов, заседавших под ее сводами, без гнева и ревности. С этим-то спором о словах я и собираюсь сегодня познакомить тех из моих немногочисленных читателей, которые, подобно мне, по прихоти или по привычке интересуются нашим классическим старьем. У каждого свой вкус, да я и не уверен, что в наши дни есть существенно более приятные способы проводить время.
Самый ранний из памфлетов против академического словаря — среди которых встречаются и превосходные и бездарные — ”Комедия академиков” Сент-Эвремона; она воспроизведена в его ”Сочинениях”, отдельные же издания 1646 года (оно указано у господина Барбье) и 1650 года найти почти невозможно. Эту ”комедию”, комедией вовсе не являющуюся, Пелиссон зачислил в разряд фарсов{191} и тем оказал ей незаслуженную честь — ведь среди фарсов попадаются восхитительные. ”Комедия” же Сент-Эвремона — довольно пошлое сочинение, где изредка попадаются недурные шутки. Во всяком случае ”Комедии” очень далеко до остроумной и язвительной ”Беседы маршала д’Окинкура и отца Каная”{192}, автором которой я вслед за Вольтером — впрочем, очень ненадежным советчиком в вопросах истории литературы — считаю Шарлеваля.