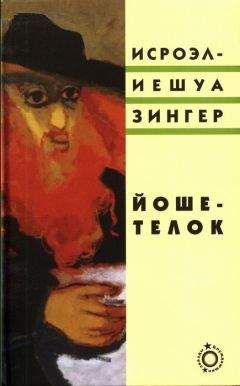Еще больше она была поглощена сочинением писем от Сереле к мужу. Сереле очень хотелось предстать в выгодном свете перед своей знатной свекровью, показать, что она не такая глупая, какой та ее считает. Писательница из Сереле была неважная. Помимо того, что ее почерк был неуклюжим, кривым — сплошные каракули, точно как у ее отца, она еще и не могла ничего придумать. Ее учитель, лембергский еврей, когда-то выучил ее по письмовнику, полному немецких словечек, копировать первую строчку по образцу и подписываться на древнееврейском: «Мимени Сора-Сереле бас а-рав а-кодойш ми-Нешава»[83]; больше она ничего не умела. И Малкеле писала за нее.
Это были длинные письма, она слагала их в уме по ночам; письма со множеством тонких иносказаний о тоске, преданности, тайной любви. В чужие послания она вкладывала всю душу. Сереле переписывала их своими каракулями. Чем усерднее она пыталась выводить буквы красиво, тем больше делала клякс и помарок. Малкеле исправляла, дописывала, зачеркивала, а затем они шли на почту и с бьющимся сердцем опускали письмо в ящик.
В погожие дни Малкеле бродила по дорогам, по тем полям, где раньше встречала Нохемче. Но вскоре начались пасмурные, мокрые дни, когда небо висит над землей как мокрая тряпка, пожухлые деревья без умолку шелестят и плачут, а черная земля становится такой мягкой, что женщины надевают сапоги. Во дворе пусто. Из-за плохой погоды хасидов приходит мало. Повсюду туман, грязь, сырость, одни лишь заблудившиеся перепачканные свиньи шляются по двору, чешут спины о стены и противно хрюкают. Дни становятся все короче. Не успеешь оглянуться — уже ночь. Тусклые ночники отбрасывают больше тени, чем света.
Малкеле ходила по дому чужая, потерянная, озлобленная, как зверь в клетке. Теперь ребе выказывал ей еще большую любовь и преданность, чем раньше.
Уже не будучи занят праздниками и хасидами, он рано ложился спать. От сырости и дождей его старые кости ныли, их пронизывал холод, и ребе хотелось получить немного радости от своей четвертой жены, которая так дорого ему обошлась — в целое состояние.
— Ну, — зевая, говорил он после чтения кришме[84], — зимой надо ложиться пораньше.
Малкеле не отвечала. Она уходила в свою комнату и сидела там в тишине, довольно прислушиваясь к его тяжким охам и вздохам.
Она его ненавидела. Если Нохемче в своем влечении к Малкеле не возненавидел жену, а, наоборот, как каждый мужчина, который любит другую, чувствовал себя виноватым перед женой, жалел ее и потому выказывал ей больше любви, то Малкеле, как каждая женщина, которая любит другого, терпеть не могла своего мужа и никакой жалости и сострадания к нему не испытывала.
Она стелила себе в другой комнате и убегала от него туда. А то и вовсе посреди ночи снимала белье со своей кровати, расстилала его на полу, ложилась и с головой укрывалась периной.
Нешавский ребе чувствовал, как сердце в его мохнатой груди перестает биться, жизнь замирает в нем от горя.
— Малкеле, — глухим голосом звал он, — Малкеле, не годится так лежать на полу. Ты простудишься…
Это было единственное, что он мог сказать. Других слов для нее он не находил.
Малкеле не откликалась.
Она часто насмехалась над ним, дразнила, злила. А затем, когда он уже был усталым, разбитым и падал с ног, она подходила к нему и потешалась над его старостью, унижала его. Он был очень жалок, этот старый человек, к которому тысячи людей относились с благоговением и обращались за помощью, — жалок и смешон с его развевающимися пейсами и грузной, тучной фигурой. Он был похож на каменные фигуры с козлиными ногами, которые Малкеле видела в перемышльском городском саду. От этой мысли она начинала хохотать.
Ребе был в отчаянии. Он все размышлял и никак не мог понять, чего она хочет. Он оказал ей такие почести, взял в жены без приданого, одел и обул, подарил столько украшений, сделал нешавской ребецн. Чего же она еще хочет? После долгих раздумий он решил, что она, конечно же, хочет уверенности в будущем. Она молодая, глупая, она боится, что после его кончины, через сто двадцать лет[85], наследники нешавского двора не примут ее в семью, а выгонят без долгих разговоров. «Вот в чем дело, — озарило его, — и ведь она, наверное, права». Его дети только и ждут, когда полномочия ребе перейдут к ним. Никакой сыновней преданности. Конечно, именно об этом она и думает, — он уже был уверен в этом, — хочет, чтобы он обеспечил ее, завещал часть двора, денег. Поэтому она такая сердитая, поэтому так дурно обращается с ним. Она ведь женщина, потому и стесняется сказать прямо.
Эта мысль так окрылила его, что он немедленно позвал к себе Исроэла-Авигдора и послал его за местечковым нотариусом. Ребе несколько часов сидел с гоем над бумагами. Переписал на свою четвертую жену часть дома, украшения, много денег. Потом выпил с Исроэлом-Авигдором водки с коврижкой; ему было очень весело.
— Хвала Всевышнему, — радостно бормотал реб Мейлех снова и снова, преисполненный веры.
В этот раз он лег спать очень рано. Он долго читал кришме и вдобавок еще несколько молитв и улыбался Малкеле из зарослей своих густых косм. Все кудрявые волоски в его бороде, усах, бровях, ушах и носу лучились радостью.
— Малкеле, — сказал он, — ты, слава Богу, теперь богачка, большая богачка…
Но Малкеле не было дела до этого. Она не нашла для мужа ни единого слова благодарности за его добрый поступок. Тот был в отчаянии.
Хуже всего было то, что он ни с кем не мог поговорить об этом, никому не мог поведать о своем горе, спросить совета. Он, который стольким людям давал советы, теперь остался один-одинешенек среди всех своих детей, близких, тысяч хасидов, наедине со стыдом и болью, бессильный против нищей сироты, которую он так осчастливил.
— В ней сидит нечистая сила, — бормотал он себе под нос.
Он потерял аппетит, не мог спать. Даже сигары потеряли для него вкус. Кроме горечи, он ничего в них не чувствовал. Ребе звал докторов, окунался в холодную воду в микве, глотал пилюли. Чтобы забыть о своем несчастье, он отправился в поездку — собирать дань с хасидов. Он собрал много денег, требуя и наседая на людей. Занятый деньгами, он забывал свою боль.
А для Малкеле тянулись долгие, бессмысленные дни, дни печали и пустоты. Ночи были длинные, конца-краю не видно, тоскливые зимние ночи. Стены стонали, заледеневшие окна скрипели от мороза. Она лежала без сна, ни на минуту не смыкая глаз. Кусала подушку, плакала от тоски и томления по тому, кто сейчас так далеко, где-то по ту сторону границы. Она представляла его, закрыв один глаз, вызывала в памяти его лицо, тонкое изящное тело. Она видела все так ясно, что принималась целовать подушку, которая вдруг обретала его лицо.
Потом Малкеле начинала злиться на него за то, что он оставил ее тосковать одну, ненавидела его, сжимала кулаки. Она видела его во сне, в своем вышивании, в книгах, которые читала тайком. Но ее влечение было более греховным и страстным, чем у Нохемче, поскольку ее ум не был отточен учением, облагорожен книгами, каббалой; ее порыв был сильным, грубым, такой не спрячешь во снах и не заглушишь мыслями.
Огонь, горевший в ее крови, искал себе пищу.
Бывали ночи ожидания. Насторожив уши, она прислушивалась к каждому шороху в тишине, к каждому звуку, которыми так богата ночь. Она прекрасно знала, что тот, кого она ждет, не придет сюда, что он где-то далеко, что никто не приедет сюда, в этот ужасный двор. Так она и лежала с открытыми глазами, ловя каждый шорох. Она ждала чуда.
Бывали ночи ярости. Дикий гнев охватывал ее — на двор, на тетю, которая продала ее сюда, на мать, которая сидит где-то в чужом городе с чужим мужчиной, на всех знакомых и даже на него, Нохемче, который так глух к ее зову. Как-то в неистовстве она сорвала со стены старомодные часы, этого врага неспящих, который без конца отсчитывает свое вечное скучное тиканье, и от одного его звона до другого проходит не час, а вечность. Она разорвала несколько своих немецких книжек, которые уже перечитала по нескольку раз. С огромной ненавистью она раздирала гладкие страницы, покрытые готическими буковками, нарисованными джентльменами в цилиндрах и дамами в кружевах.
Бывали ночи жалости к себе. Среди ночи Малкеле вставала с кровати, надевала самые дорогие платья, самые лучшие украшения и долго любовалась собой. Большого зеркала в комнате не было, лишь маленькое зеркальце. Она приподнимала шлейф платья и пускалась в пляс. Танцевала быстро, неистово, до тех пор, пока голова не начинала кружиться, — и тогда она прямо в платье бросалась на кровать и оплакивала себя, от души, во весь голос.
Иногда она открывала окно. В одной рубашке садилась у окна и смотрела широко раскрытыми глазами на белый снег, освещенный луной. Ей хотелось простудиться, умереть.
Она представляла себе трех предыдущих жен, которые когда-то жили и умерли здесь; которые, наверное, лежали здесь, такие же грустные и одинокие, как и она. Она увидела себя саму мертвой; вот люди идут за ее похоронной процессией. И Нохемче тоже идет. Ее платья остаются в шкафах, вместе с платьями прежних жен, и моль пожирает их.