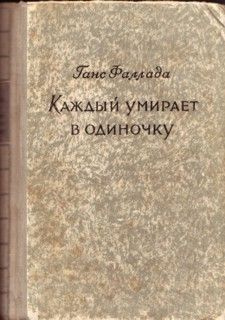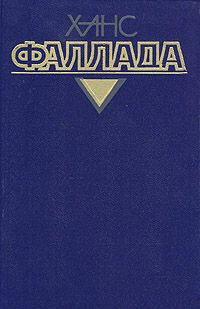— Сделаю, отец!
— И сходи за меня к господину директору. Я обещал ему завтра же послать Эриха в школу. А теперь ничего не выйдет. Объясни ему…
— Ах, отец…
— Ну что?
— Мне завтра неудобно идти к дирексу…
— Но почему же? И не говори «к дирексу»…
— Он, верно, на меня ужас как зол. Мы вчера здорово поцапались, я и один парень из моего класса, Кунце нас записал, говорит, что обязательно доложит дирексу… директору.
— Из-за чего же у вас драка вышла?
— Да просто так! Он известный воображала и вечно над всеми издевается, надо же когда-нибудь дать ему по носу.
— Ну ты и дал?
— Будь спокоен! По всем правилам! К концу он уже еле дышал и только кричал «пакс»!
— А что значит «пакс»? «Пакс» это по латыни «мир», так кричат, когда пардону просят.
— Ну так вот что, Малыш, если за этим дело, можешь спокойно идти к директору. Мы с господином директором как раз видели в окно, как вы тузили друг друга.
— Вот хорошо-то! У меня уже в журнале есть закорючина, печально было бы схватить четверку по поведению.
С минуту стоит тишина. Разговор с этим сыном успокоил и утешил отца.
— Ладно, Малыш, так не забудь! И спи спокойно!
— Спи и ты спокойно! Не переживай за Эриха. Он похитрей нас с тобой и директора, вместе взятых. Эрих всегда выйдет сухим из воды.
— Спокойной ночи, Малыш!
— Спокойной ночи, отец!
ГЛАВА ВТОРАЯ
РАЗРАЗИЛАСЬ ВОЙНА
1
31 июля 1914 года.
С раннего утра, заливая всю площадь до самого Люстгартена, теснится народ перед Замком, над которым уже развевается желтый штандарт, указывающий на присутствие в Замке верховного полководца. Неустанно отливают и приливают толпы: люди стоят и час и два, чтобы потом вернуться к своим каждодневным обязанностям, но они выполняют их наспех, кое-как, ибо каждого гнетет вопрос — будет ли война?
Вот уже три дня, как союзная Австрия объявила войну Сербии, — что же теперь будет? Сохранится ли в мире спокойствие? Подумаешь — война на Балканах, империя-исполин против маленького сербского народа, — какое это имеет значение? Но, говорят, в России объявлена мобилизация, да и Франция что-то затевает. А как же Англия?
Солнце палит вовсю, духота такая, что дышать нечем. Толпа бурлит и клокочет. Кайзер будто бы сегодня в полдень произнес с балкона речь, но пока Германия еще в мире со всеми народами. Толпа волнуется и бурлит, целый месяц прошел в неизвестности, в гаданиях о том, о сем, в невнятных переговорах, в угрозах и мирных заверениях — и нервы от долгого ожидания у всех напряжены до крайности. Любое решение лучше, чем это мучительное ожидание, эта неопределенность.
В толпе шныряют разносчики, предлагая сосиски, газеты, мороженое. Но никто ничего не покупает, людям не до еды, не нужны им и утренние газеты, они уже устарели, им уже нельзя верить. Людям нужна ясность! Они перебрасываются отрывистыми, взволнованными замечаниями, каждый что-то слыхал. И внезапно — на полуслове — разговоры обрываются, толпа умолкла и, позабыв все на свете, смотрит на окна дворца. И на балкон, с которого сегодня будто бы говорил кайзер… Они пытаются заглянуть в окна, но стекла ослепительно сверкают на солнце, а там, где не мешает солнце, видны только желтые неяркие занавеси.
Что там внутри происходит? Какие решения принимаются в полумраке — решения, затрагивающие судьбу каждого мужчины, каждой женщины, каждого ребенка? Сорок лет держался мир, они уже не представляют себе, что такое война… И все же они чувствуют, что одно лишь слово из этого безмолвного непроницаемого здания может перевернуть всю их жизнь, И они ждут этого слова, они страшатся его, но и страшатся, что оно не прозвучит и что они столько недель зря томились и чего-то ожидали…
Внезапно становится так тихо, словно толпа затаила дыхание… Но ничего еще не случилось, ничего еще пока но случилось, только башенные часы — близко и далеко — часто и плавно, звонкими и басистыми голосами отбивают время: пять часов…
Ничего еще не случилось, они стоят и ждут, затаив дыхание…
Но вот распахнулись дворцовые двери, все видят, как они открываются — медленно, медленно, — из них выходит шуцман, берлинский полицейский в синей форме и остроконечной каске…
Они глаз с него не сводят…
Он поднимается на каменную балюстраду и знаком призывает к молчанию.
Но они и без того молчат…
Шуцман не спеша снимает каску и держит ее перед собой на уровне груди. Не дыша, следят они за каждым его движением, хоть это и обыкновенный шуцман, каких они каждый день видят на городских улицах… И все же его образ неугасимо запечатлевается у них в душе. Им предстоит в ближайшие годы увидеть немало ужасного, немыслимо страшного, но никогда они не забудут, как этот шуцман снял каску и как он держал ее на уровне груди.
Шуцман раскрывает рот — ах, все глаза устремлены на этот рот, — что-то он им объявит? Жизнь или смерть, войну или мир?
Шуцман раскрывает рот и объявляет:
— По приказу его величества кайзера, сообщаю: издан указ о мобилизации!
Шуцман закрывает рот, он глядит куда-то поверх толпы, а потом рывками, словно марионетка, надевает на голову каску.
Мгновение толпа молчит, но кто-то уже затягивает песню, другие подхватывают, и вот уже сотни, тысячи голосов гремят дружным хором:
Благодарите бога все —
руками, сердцем и устами!
Рывками, словно марионетка, шуцман снова снимает каску.
2
По Унтер-ден-Линден мчатся автомобили. В них стоят офицеры, размахивая флагами. Они складывают ладони рупором и кричат:
— Мобилизация! Объявлена мобилизация!
Люди весело смеются, все счастливы, все приветствуют офицеров. В воздух летят цветы, молодые девушки срывают свои широкополые соломенные шляпки, машут ими, держа за ленты, и кричат, ликуя:
— Мобилизация! Война!
Для офицеров настал желанный час, сорок лет они занимались скучной шагистикой, до чего она им осточертела! Никто уже их не замечал, словно они пустой, никудышный народ! А теперь к ним обращены все взоры, глаза у всех сияют: ведь это им предстоит бороться за свободу и мир для каждого, а может быть, и умереть!
— Какое счастье, что я до этого дожил! — восклицает старик Хакендаль, увлекаемый водоворотом ликования. — Теперь опять все будет хорошо!
На одной его руке повис Гейнц, на другой Эва, они движутся вместе с толпой, они смеются. Эва задорно посылает офицерам в их машинах воздушные поцелуи.
— Ах, отец! — восклицает Гейнц и крепче прижимает к себе руку отца.
— Что, Малыш? — Хакендаль нагибается низко-низко, чтобы в этой суматохе уловить, что говорит ему сын.
— Отец… — У Гейнца перехватило дыхание. — Отец… — Не сразу удается ему выдохнуть: — А мне можно с ними?
— С кем с ними? — недоумевает отец.
— Да с ними… на войну… сражаться с врагом. Ах, пожалуйста, отец!
— Что ты выдумал, Малыш! — говорит Хакендаль. Его забавляет просьба сына, но он и гордится ею. — Тебе ведь только тринадцать минуло! Ты еще ребенок…
— Ах, отец, меня возьмут, лишь бы ты позволил. Отдай меня в свой старый полк, к пазевалькцам. Ведь бывают же юные барабанщики, я знаю наверняка!
— Юные барабанщики! И это говорит сын старослужилого вахмистра! У нас, немцев, нет юных барабанщиков! Разве что у красноштанников-французов…
— Ах, отец!
— Держись за меня крепче, Эвхен! Нам надо торопиться домой! Сказать Отто, ведь он еще не знает! Раз сегодня объявлена мобилизация, ему самое позднее завтра являться в казарму. Если не сегодня… Я и сам хорошенько не знаю! Скорее домой — мне надо проглядеть его бумаги!
Они идут против течения и временами подолгу топчутся на месте. Приходится крепко держаться за руки, чтобы не растерять друг друга в толпе.
Гейнц искоса поглядывает на отца.
— Послушай, отец…
— Чего тебе?
— Только не сердись, отец! А разве Эрих не должен призываться?
— Должен?.. — с готовностью откликается отец, словно Гейнц взрослый. Он и сам успел подумать об Эрихе. — Нет, не должен. Ведь ему только семнадцать минуло! Но он может пойти добровольцем…
— Эрих — добровольцем?
— А почему бы и нет? Разве и ты, Гейнц, уже плохого мнения о брате? Все это надо забыть, мы теперь должны стоять друг за друга. Все мы теперь одно — каждый должен понимать. В том числе и Эрих!
— Да, отец! И я так считаю. Все у нас должно пойти по-другому.
— Вот то-то, что по-другому! Увидишь — и Эрих к нам вернется. Сам вернется. Должен вернуться — ведь у меня его бумаги. Но это как раз не важно… он и без того пришел бы. Он теперь испытал, что значит быть одному на свете. Все мы теперь заодно и должны стоять друг за друга, все немцы!
— Да, отец!
— Пожалуй, оно и лучше, что мы весь этот месяц зря искали Эриха. Он небось понял, что значит остаться одному, не иметь никого близкого на свете. Все мы теперь одно. Видишь, вон и Эва — смеется и шутит с тем господином. Только что они не знали друг друга, и через минуту знать не будут. Они чувствуют, они не чужие, ведь оба они немцы. Увидишь, когда мы вернемся Домой, Эрих уже у матери и нас дожидается. И нечего поминать про старое, слышишь, Малыш? Все прощено и забыто! Ничего такого и в помине нет! Вам надо встретиться как братьям, слышишь, Малыш? Теперь все мы… Но куда девалась Эва? Да вот и она!.. Эва! Мы здесь! Экая чудачка! Она и не глядит на нас. — Он приставил обе ладони ко рту. — Эва Хакендаль! Ха-кен-даль! Сюда!