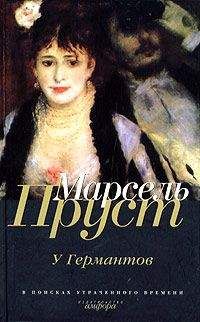Кое-когда то, что мы должны были бы сделать днем, мы осуществляем в мечтах, иными словами – после постепенного осонновения, идя не тем путем, каким шли бы мы наяву. Слагается та же самая повесть, но только с другим концом. Несмотря ни на что, мир, где мы живем во сне, до такой степени необычен, что люди, засыпающие с трудом, прежде всего стараются выйти из нашего мира. Напрасно пролежав с закрытыми глазами несколько часов, одолеваемые теми же мыслями, какие занимают нас, когда глаза наши открыты, они приободряются, если замечают, что истекшая минута была вся заполнена рассуждением, идущим вразрез с законами логики и против очевидности; это недолгое «помутнение» означает, что дверь открыта и что, быть может, они сейчас ускользнут от восприятия действительности, устроят привал где-нибудь подальше, и это даст им более или менее «хороший» сон. Но это уже большой шаг вперед – когда мы поворачиваемся спиной к действительности и добираемся до первых пещер, где ведьмы «самовнушений» варят адское варево выдуманных болезней или обострившихся нервных заболеваний и ждут часа, когда припадки, собравшись с духом во время глубокого сна, возобновятся с такой силой, что сон прервется.
Неподалеку оттуда есть заповедный сад, где, точно сказочные цветы, растут такие непохожие один на другой сны: сон от дурмана, от индийской конопли, сны от разных видов эфира, сон от белладонны, опиума, валерианы, – цветы, которые не распускаются вплоть до дня, когда избранный незнакомец прикоснется к ним, раскроет их, и они несколько часов подряд будут изливать аромат необычайных снов в каком-нибудь восхищенном и изумленном существе. В саду стоит школа при монастыре, окна открыты, слышно, как в школе повторяют выученные перед сном уроки, которые ученики будут знать, только после того как проснутся, а предвестник пробуждения, тикающий в нас внутренний будильник, до такой степени точно поставлен нашим беспокойством, что когда наша экономка придет нам сказать: «Семь часов», то увидит, что мы уже встали. На темных стенах той комнаты, что выходит в сновидения и где без устали трудится забвение любовных горестей, работу которого лишь изредка прерывает и разрушает полный отсветов минувшего кошмар и которое тотчас же снова берется за дело, продолжают висеть даже после того, как мы проснулись, воспоминания о снах, но до того затененные, что часто мы впервые замечаем их белым днем, когда их случайно осветит луч близкой им мысли; иные уже, – безоблачно ясные, когда это были сны, – так изменились, что, не узнав их, мы спешим предать их земле, как очень скоро разложившихся мертвецов или как вещи, до такой степени попорченные, рассыпающиеся в руках, что самый искусный реставратор не сумел бы восстановить их, что-нибудь с ними сделать.
За оградой есть карьер, откуда крепкие сны добывают вещества, до того прочно цементирующие голову, что для того, чтобы разбудить спящего, нужна его собственная воля, и воля, даже солнечным утром, принуждена, как юный Зигфрид,[48] со всего размаху ударять топором. Еще дальше живут кошмары, о которых врачи говорят глупости: будто они изнуряют хуже бессонницы, – как раз наоборот: они дают возможность мысли спрятаться от внимания; это фантастические альбомы с карточками наших умерших родных, причем все эти родные стали жертвами несчастного случая, но все-таки есть надежда, что они скоро поправятся. Впредь до выздоровления мы держим их в мышеловочке, где они, меньше белых мышей, все в больших красных прыщах, с пером на шляпах, блистают перед нами цицероновским красноречием. Рядом с альбомом находится вращающийся диск будильника, и по воле этого диска мы на мгновение, как нам ни скучно, возвращаемся в дом, разрушенный пятьдесят лет тому назад, в дом, образ которого, по мере того как удаляется сон, все плотнее загораживают другие, пока наконец мы не попадаем в тот, что вырастает, едва лишь остановится диск, в тот, что совпадает с домом, который мы увидим, чуть только откроем глаза.
Я ничего не слышал в тех случаях, когда меня одолевал особенно тяжелый сон, – в него проваливаешься, как в яму, и бываешь безмерно счастлив оттого, что скоро вылез оттуда, огрузневший, объевшийся, переваривающий все, что тебе подносили, подобно нимфам, кормившим Геркулеса,[49] расторопные вегетативные силы, работающие с удвоенной энергией во время нашего сна.
Такой сон называют свинцовым; когда просыпаешься, несколько минут тебе потом кажется, что ты и сам превратился в простую свинцовую куклу. Личности ты уже собой не представляешь. Но почему же в таком случае, ища свою мысль, свою индивидуальность, мы в конце концов находим наше «я» скорее, чем чье-либо другое? Отчего, когда мы вновь обретаем способность мыслить, в нас воплощается прежняя наша индивидуальность? Непонятно, от чего зависит выбор и почему из миллионов человеческих существ, которыми мы могли бы быть, жребий падает на то, кем мы были вчера. Что нами руководит, раз наступил самый настоящий перерыв (будь то крепкий сон, будь то сновидение, совершенно нам чуждое)? Наступила самая настоящая смерть, какая наступает, когда сердце перестает биться и нас оживляют, мерным движением потягивая за язык. Конечно, всякая комната, хотя бы мы видели ее всего один раз, будит воспоминания, а за них цепляются более давние. Или некоторые из них, – те, что доходят до нашего сознания, – дремали в нас? Воскресение от сна – после благотворного умопомешательства, какое представляет собою сон, – по существу мало чем отличается от того, что происходит с нами, когда мы вспоминаем имя, стих, забытый напев. И, быть может, воскресение души после смерти есть не что иное, как проявление памяти.
Когда я просыпался окончательно, мой взгляд притягивало осиянное солнцем небо, а в постели удерживала свежесть последних предзимних ясных и холодных утр, и, чтобы увидеть деревья, на которых листья обозначались лишь двумя – тремя золотыми или розовыми мазками, как бы висящими в воздухе на незримой нити, я поднимал голову и вытягивал шею, не вылезая из-под одеяла; точно куколка, которая должна превратиться в бабочку, я представлял собой двойное существо, разным частям которого требовалась особая среда; моим глазам достаточно было одних красок, без тепла; грудь, напротив, ощущала потребность в тепле, а не в красках. Я вставал только после того, как затапливали камин, смотрел на картину прозрачного и тихого золотисто-лилового утра и искусственно прибавлял к ней недостававшее ей тепло, помешивая в камине, попыхивавшем и дымившем, как хорошая трубка, и, так же как трубка, доставлявшем мне наслаждение грубое, оттого что оно имело под собой основу чисто физического приятного ощущения, и вместе с тем изысканное, оттого что за ним намечалось что-то ясное-ясное. Моя умывальная была оклеена обоями, на которых по ярко-красному полю были пущены черные и белые цветы, и вот к этим обоям, казалось бы, мне нелегко будет привыкнуть. Но они только создавали ощущение новизны, не сталкивались, а соприкасались со мной, из-за них я теперь вставал весело, но по-иному и с по-иному громким пением, они только ставили перед моими глазами что-то вроде мака, чтобы я смотрел на мир, совсем непохожий на тот, какой открывался моему взору в Париже, что-то вроде веселеньких ширм, которые представлял собою этот новый для меня дом, иначе стоявший, чем дом моих родителей, отчего сюда непрерывно притекал свежий воздух. Бывали дни, когда мне не давало покою желание увидеть бабушку, или я боялся, что она заболела, или вспоминал о деле, которое не доделал в Париже; иной раз меня угнетала мысль, что я уже здесь ухитрился попасть в затруднительное положение. Эти волнения гнали от меня сон, я ничего не мог поделать с моей тоской – она мгновенно заполняла все мое существо. Тогда я посылал кого-нибудь из гостиницы в казарму с запиской к Сен-Лу: я писал, что если только для него это физически возможно, – я знал, что это очень трудно, – то не будет ли он так добр на минутку зайти ко мне. Через час он приходил; стоило мне услышать его звонок, и я чувствовал, что все мои тревоги улетучиваются. Я знал, что они сильнее меня, но что он сильнее их, и мое внимание отвлекалось от них и устремлялось к человеку, который должен был их рассеять. Сен-Лу с самого утра двигался на свежем воздухе, и теперь он приносил его с собой, он заполнял мою комнату средою, резко отличавшейся от той, что окружала меня здесь, и я сейчас же к ней приспособлялся, соответственно на нее реагируя.
– Не сердитесь на меня за то, что я вас побеспокоил, я очень взволнован одним обстоятельством, вы, наверное, догадываетесь.
– Да нет, я просто подумал, что вы обо мне соскучились, и это меня тронуло. Вы прекрасно сделали, что послали за мной. Ну? Что-нибудь не так? Чем могу быть вам полезен?
Он выслушивал мои объяснения, давал точные ответы; но не успевал он рот раскрыть, как я уже дорастал до него; по сравнению с его важными делами, благодаря которым у него был такой озабоченный, бодрый, довольный вид, неприятности, причинявшие мне ни на секунду не утихавшую боль, казались теперь мелкими не только ему, но и мне; у меня было такое же чувство, как у человека, который несколько дней не мог открыть глаза и наконец послал за доктором и которому доктор ловко и безболезненно приподнял веко, извлек и показал песчинку; глаз у больного стал смотреть, и больной успокоился. Всем моим тревогам приходил конец, как только Сен-Лу предлагал послать телеграмму. Жизнь казалась мне теперь совершенно иной, прекрасной, избыток жизненных сил побуждал к действию.