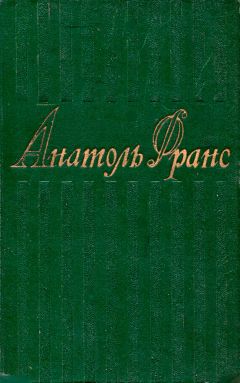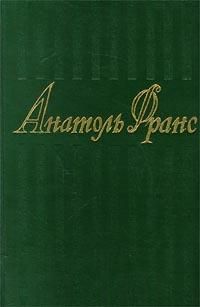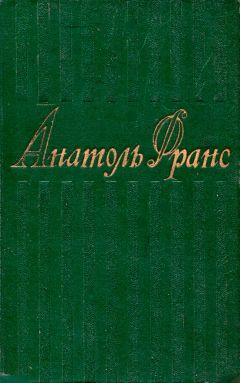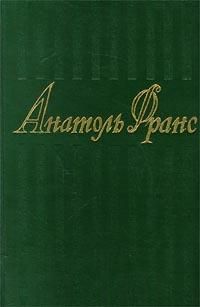Я же, сударыня, прожил жизнь тихо, наедине с самим собой; мое существование, без больших радостей и без больших страданий, было довольно счастливо. Но с давних пор зимой, по вечерам, я не могу не чувствовать щемящей боли в сердце, когда сижу у себя и вижу рядом другое, никем не занятое кресло. Давно умерла Клементина. За нею следом ушла и дочь ее в вечный покой. У вас я видел внучку. Пока еще не стану говорить, как некогда сказал библейский старец: «Господи, ныне призови к себе раба твоего». Если старичок вроде меня и может оказаться кому-нибудь полезен, так только этой сироте, которой я намерен посвятить, при вашей помощи, остаток своих сил.
Последние слова я произнес в передней у де Габри и уже собирался попрощаться с милой спутницей, но в это время она сказала:
– Дорогой мой, в этом я не могу помочь вам так, как бы хотела. Жанна сирота и несовершеннолетняя. Вы ничего не можете для нее сделать без разрешения ее опекуна.
– Ах, – воскликнул я. – Мне и в голову не приходило, что у Жанны есть опекун.
Госпожа де Габри взглянула на меня с некоторым изумлением – такой наивности у старика она не ожидала. Госпожа де Габри мне пояснила:
– Опекун Жанны Александр – господин Муш, нотариус в Леваллуа-Перэ. Боюсь, что сговориться с ним вам будет нелегко, – он человек серьезный.
– Боже мой! С кем же, по-вашему, мне, в моем возрасте, сговариваться, как не с серьезными людьми?
Она улыбнулась, как мой отец, кротко и лукаво, говоря:
– С теми, кто похож на вас. А господин Муш далеко не из таких людей; он не внушает мне доверия. Вам надо будет попросить у него разрешения навещать Жанну, так как он отдал ее в частный пансион в районе Терн, где ей живется не очень хорошо.
Я поцеловал руку у г-жи де Габри, и мы расстались.
Со 2 по 5 мая.Опекуна Жанны, мэтра Муша, я повидал в его конторе: маленький, тощий и сухой; цвет лица пыльный, как его бумаги. Это – животное очковое, ибо без очков нельзя его себе представить. Я слышал мэтра Муша: у него трескучий голос, и говорит он, подбирая выражения; но было бы гораздо лучше, если бы он их не подбирал. Я наблюдал за мэтром Мушем: он церемонен и украдкой из-за очков приглядывает за своими служащими.
Мэтр Муш счастлив, восхищен – так он сказал мне – моим участием к его питомице. Но он думает, что на земле живут не для забавы. Да, так он думает. Ради справедливости скажу, что, сидя с ним, держишься того же мнения, – так мало занимателен он сам. Он боится, что, доставляя его питомице слишком много удовольствий, ей внушат ложное и пагубное представление о жизни. Вот почему он упрашивал г-жу де Габри брать эту юную девицу к себе лишь в редких случаях.
Я расстался с пыльным нотарием и его пыльной конторой, получив разрешение узаконенного образца (все исходящее от нотариуса Муша – узаконенного образца): в первый четверг каждого месяца посещать мадемуазель Жанну Александр в пансионе Префер, по улице Демур, в районе Терн.
В первый же четверг мая я направился к мадемуазель Префер, чье заведение мне указала еще издали вывеска синими буквами. Синий цвет был первой приметой характера мадемуазель Виргинии Префер, а изучить его в полном объеме я имел случай позже. Оробелая служанка взяла мою визитную карточку и, не подав слова надежды, бросила меня в холодной приемной, где я вдыхал приторный запах, свойственный столовым учебных заведений. Пол в приемной был навощен с такою беспощадною старательностью, что я в унынии решил остаться у порога; но, по счастью, заметил шерстяные квадратики, разложенные на паркете перед волосяными стульями, – и мне удалось, переступая с одного коврового островка на другой, добраться до камина, где я и сел, совсем запыхавшись.
На камине, в большой золоченой раме, стояла таблица с заголовком витиеватой «готикой»: Почетная доска , – но в числе многих имен, написанных на ней, я не имел удовольствия встретить имя Жанны Александр. Перечитав несколько раз имена учениц, заслуживших похвалу мадемуазель Префер, я забеспокоился, не слыша никаких шагов. В своих педагогических владеньях мадемуазель Префер, наверное, достигла бы абсолютной тишины небесных сфер, если бы не бесчисленные стаи воробьев, облюбовавших ее двор как место сбора, чтобы там чирикать сколько влезет. Приятно было слышать их. Но скажите на милость, как их увидеть сквозь матовые стекла? Приходилось ограничивать себя зрелищем приемной, украшенной по всем четырем стенам сверху донизу рисунками пансионерок. Здесь были хижины, цветы, весталки, капители, завитки и непомерная голова сабинского царя Тация, подписанная: «Этель Мутон».
Довольно долго я дивился той энергии, с какою выделила мадемуазель Мутон чащу бровей и свирепые очи древнего воителя, но вдруг слабый шорох, слабее шороха опавшего листка, скользящего по ветру, заставил меня обернуться. Правда, это был не опавший лист, а… мадемуазель Префер. Сложив руки, она скользила по зеркальной поверхности паркета, как некогда святые девы Златой легенды по хрустальной глади вод. Но при других условиях мадемуазель Префер, я думаю, не вызвала бы у меня представления о девах, любезных душе мистика. Лицом она напомнила мне яблоко, хранившееся всю зиму на чердаке запасливой хозяйки. Накинутая на плечи пелерина с бахромой сама собой не представляла ничего особенного, но мадемуазель Префер ее носила так, словно то была священная одежда или знак отличия высоких должностей.
Я объяснил цель своего визита и вручил ей разрешение.
– Вы виделись с господином Мушем? – сказала она. – Он в добром здравии? Это такой почтенный человек, такой…
Она не кончила и устремила взор к потолку. Мой взор направился вслед и натолкнулся на бумажную спиральку в виде кружев, подвешенную на месте люстры и, по моим соображениям, предназначенную приманивать мух, а тем самым отвлекать их от золоченых рам Почетной доски и зеркала.
– Встретившись с мадемуазель Александр у госпожи де Габри, – сказал я, – я имел возможность оценить прекрасный характер и живой ум этой девушки. Когда-то я был знаком с ее дедом и бабкой и склонен ту симпатию, какую внушали они мне, перенести и на нее.
Вместо ответа мадемуазель Префер, глубоко вздохнув, прижала к сердцу таинственную пелерину и снова углубилась в созерцание бумажной спирали.
Наконец она сказала:
– Если вы знали супругов Ноэль Александр, то мне хочется думать, что вы, так же как я и господин Муш, горько сожалеете о безумных спекуляциях, которые довели их до разорения, а дочь – до нищеты.
При этих словах я подумал, что быть несчастным – великий грех и что его не прощают тем, кто долго был предметом зависти. Их падение и мстит за нас и льстит нам, а мы безжалостны.
Я признался наставнице со всею откровенностью, что совершенно чужд финансовым делам, и спросил, довольна ли она мадемуазель Александр.
– Это ребенок без узды! – воскликнула мадемуазель Префер.
И она приняла позу, указанную высшей школой верховой езды, изображая символически то положение, какое создает ей ученица, так трудно поддающаяся дрессировке; затем, вернувшись к чувствам более спокойным, продолжала:
– Девочка не глупа. Но не может заставить себя приобретать знания на основе нравственных принципов.
Что за странная особа эта мадемуазель Префер! Ходит она, не поднимая ног, а говорит, не двигая губами. Не задерживая своего внимания на этих особенностях, я ответил, что, конечно, принципы – вещь отличная, и в этом отношении я полагаюсь на ее просвещенность, но в конечном счете, раз человек усвоил знание чего-либо, не все ли равно, каким путем он этого достиг.
Мадемуазель Префер тихо покачала головой. Затем, вздохнув, сказала:
– Ах, господин Бонар, люди, чуждые делу воспитания, имеют о нем весьма ложные понятия. Я верю, что говорят они с самыми добрыми намерениями, но они поступили бы лучше, гораздо лучше, когда бы положились в этом на компетентных лиц.
Я не упорствовал и спросил ее, могу ли я теперь же увидеть мадемуазель Александр.
Она рассматривала пелеринку, словно отыскивая в сплетеньях бахромы, как в книге для гаданий, нужный ей ответ, и наконец сказала:
– Мадемуазель Александр сейчас будет репетировать других. Здесь старшие учат младших. Это называется взаимным обучением… Но я бы очень сожалела, если бы вы обеспокоили себя напрасно. Я велю ее позвать. Разрешите только, для порядка, вписать ваше имя в книгу посетителей.
Она села к столу, раскрыла толстую тетрадь и, вытащив из-под пелерины письмо мэтра Муша, которое она туда засунула, начала писать, спросив:
– Бонар, одно «р», не правда ли? Простите, что останавливаюсь на этой подробности. Но мое мнение, что у собственных имен своя орфография. Здесь пишут диктанты на имена собственные… имена исторические, разумеется.
Вписав ловкою рукою мое имя, она спросила, не может ли к нему прибавить какое-нибудь звание, вроде – бывший коммерсант, чиновник, рантье или что-либо подобное. В ее списке имелась графа для званий.