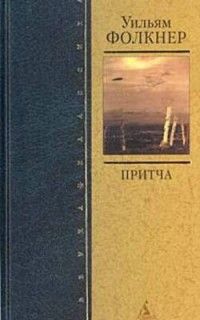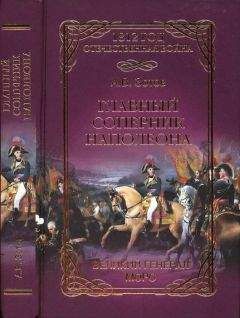— Как все? — сказал он.
Каури сунул сигарету в рот, приподнялся на локте и потянулся к свече, но рука его замерла на долю секунды.
— А что делали в это время гунны? — И тихо произнес: — Значит, война кончена.
— Не кончена, — хрипло сказал Брайдсмен. — Ты слышал, что майор сказал сегодня в полдень?
— Да, да, — невозмутимо сказал он. — Кончена. Вечно, черт возьми, эта вонючая пехота, французы, американцы, немцы, мы… Так вот что они скрывают…
— Скрывают? — сказал Брайдсмен. — Что скрывают? Скрывать нечего. Говорю тебе, война не кончена. Я же сказал, что завтра ты летишь на патрулирование.
— Ладно, — сказал он. — Не кончена. Как же она может быть не кончена?
— Потому что не кончена. Зачем же, по-твоему, мы подняли такую стрельбу — и мы, и французы, и американцы, весь фронт от самого Ла-Манша — и расстреляли полугодовой запас снарядов, если не для того, чтобы не подпускать гуннов, пока нам не станет ясно, что делать?
— С чем? Что делается сейчас в ангаре?
— Ничего! — сказал Брайдсмен.
— Что делается в ангаре звена В, Брайдсмен?
Пачка сигарет лежала на ящике между койками, служившем вместо стола. Брайдсмен повернулся и потянулся к ней, но не успел он коснуться пачки, как Каури, лежавший, подложив руки под голову, не глядя не него, протянул свою, уже зажженную, сигарету. Брайдсмен взял ее.
— Спасибо, — сказал он и снова взглянул на него. — Не знаю. — И продолжал хрипло и громко: — И не хочу знать. Я только знаю, что завтра нам лететь на патрулирование. Если у тебя есть причины отказаться, скажи, я возьму кого-нибудь другого.
— Нет, — сказал он. — Спокойной ночи.
— Спокойной ночи, — ответил кто-то один.
Но это было не завтра. Никакого завтра не было: лишь рассвет, потом заря, потом утро. Утренние патрули не вылетали, он бы услышал их, потому что давно уже не спал. Когда он шел в столовую завтракать, на рулежной дорожке не было аэропланов, и на доске, где Колльер иногда писал мелом объявления, которых, в сущности, никто не читал, ничего не было написано; он долго сидел за убранным столом, где Брайдсмен при желании мог бы рано или поздно его заметить. Оттуда был виден аэродром, закрытые, безжизненные ангары, и он смотрел, как через два часа сменяются часовые, расхаживающие все долгое коматозное утро, замершее в тишине под светлым небом.
Наступил полдень; он увидел, как сел «Гарри Тейт», подрулил к канцелярии и выключил двигатель; с места наблюдателя спустился генерал, снял шлем, очки, бросил их в кабину и достал оттуда трость и медно-красную фуражку. Потом все сели за ленч: генерал, его летчик, пехотный офицер и летчик эскадрильи; это был первый на его памяти ленч, где присутствовали все звенья, генерал говорил не так хорошо, как майор, речь его заняла больше времени, но сказал он то же самое:
— Война не кончена. Мы вполне можем обойтись и без французов. Нам следовало бы отойти к портам Ла-Манша и позволить гуннам захватить Париж, Это было бы не в первый раз. На лондонской бирже началась бы паника, но им это тоже не впервой. Однако речь уже не об этом. Мы не просто одурачили гуннов, французы опять включились в войну. Считайте это отдыхом, потому что, как и всякий отдых, он скоро кончится. И мне кажется, кое-кто из вас не будет жалеть об этом. — И стал называть фамилии, так как регулярно просматривал документацию и знал их всех: Торп, Осгуд, Де Марчи, Монаган, они воюют чертовски хорошо и будут воевать еще лучше, потому что французы получили хороший урок. А в следующий раз отдых будет долгим, потому что пушки замолчат теперь уже по ту сторону Рейна. Большое спасибо, можете разойтись.
Не раздалось ни звука, хотя, видимо, никто этого и не ждал, все вышли наружу, двигатель «Гарри Тейта» был уже запущен, майор помог положить красную фуражку и трость снова в кабину, достал шлем и надел его на генерала, генерал сел в аэроплан, майор скомандовал «Смирно!» и откозырял, генерал указал большим пальцем вверх, и «Гарри Тейт» побежал по рулежной дорожке.
День прошел впустую. Он опять сидел в столовой, где Брайдсмен при желании мог заметить его или найти, и ничего не дождался, как и днем, теперь он понял, что не ждал, не верил даже тогда, тем более что Брайдсмен должен был видеть его во время ленча, потому что сидел напротив. В сущности, там была вся эскадрилья: люди сидели или слонялись по столовой — вернее, только новички, зеленые, такие же, как он, — Вильнев-Блан, даже Вильнев, которую Колльер назвал притоном, была все еще под запретом (и, должно быть, впервые в ее истории кто-то, не родившийся там, стремился туда). Можно было пойти к себе в домик; там лежало недописанное письмо к матери, но сейчас он не мог дописывать его, потому что вчерашнее прекращение огня не только обессмыслило все слова, но и покончило с тем, что крылось за ними.
Однако он пошел в домик, взял книгу и лег на койку. Может быть, лишь для того, чтобы продемонстрировать, доказать своему телу, костям и плоти, что он ничего не ждет. Или, возможно, чтобы приучить их к отказу, отречению. Или, может, дело было не столько в костях и плоти, сколько в нервах, мускулах, которые правительство учило в серьезном, хотя и временном кризисе выполнять одну весьма специфическую работу, но правительство преодолело кризис, разрешило нужную проблему, прежде чем он получил возможность заплатить за учение. Не за славу — за то, что его учили. Лавровый венок славы, даже и не особенно пышный, обагрен человеческой кровью; славы можно добиваться, лишь когда родина в опасности. Мир покончил с опасностью, а человеку, способному делать выбор между славой и миром, лучше всего помалкивать…
Но это было не чтение; а «Гастон де ла Тур» все же заслуживал того, чтобы тот, кто раскрыл книгу, пусть даже лежа, читал его. И он стал читать, спокойный, примирившийся, уже не жаждущий славы. Теперь у него было даже будущее, оно будет длиться вечно; ему нужно лишь найти себе дело, потому что единственная его профессия — летать на вооруженных аэропланах, чтобы сбивать (или пытаться сбить) другие вооруженные аэропланы, — уже не нужна. Близилось время обеда; на еду будет уходить немного времени, четыре, учитывая чаепитие, возможно, даже пять часов из двадцати четырех, если есть медленно, потом восемь на сон или даже девять, если тоже не торопиться, и на подыскивание себе занятий остается менее полусуток. Но сегодня он не собирался ни на чаепитие, ни на обед; у него оставалось почти четверть фунта шоколада, присланного матерью на прошлой неделе, и предпочитал ли он шоколад обеду и чаю, не имело значения. Потому что их — вновь прибывших, новичков, возможно, отправят домой завтра же, и он, раз так уж вышло, вернется домой без наград на кителе, но по крайней мере не с четвертью фунта тающего в руке шоколада, словно полусонный мальчишка с ярмарки. А человек, способный растянуть еду и сон более чем на четырнадцать часов в сутки, должен быть способен провести остаток дня в одиночестве, над «Гастоном де ла Туром», пока не наступит ночь: темнота и сон.
На другой день, в четвертом часу пополудни, когда он не только не ждал ничего, но вот уже двадцать четыре часа не напоминал себе, что ничего не ждет, в дверях домика внезапно появился дежурный капрал.
— В чем дело? — спросил он. — Что-нибудь случилось?
— Так точно, сэр, — ответил капрал. — Патрулирование, сэр. Вылет через тридцать минут.
— Всей эскадрильей?
— Капитан Брайдсмен послал только за вами, сэр.
— Всего через тридцать минут? — сказал он. — Черт возьми, чего же он раньше… Ясно, — сказал он. — Тридцать минут. Спасибо.
Дело в том, что теперь нужно было заканчивать письмо к матери, получаса на это вполне хватило бы, но было мало, чтобы вновь обрести настроение, веру, делающие письмо необходимым. А письмо оставалось лишь подписать и вложить в конверт. Потому что помнил его:
«…право же, ничуть не опасно. Что умею летать, я знал еще до того, как прибыл сюда, в совместных полетах проявил себя неплохо, и даже капитан Брайдсмен признает, что в воздухе я особой угрозы для жизни не представляю, так что, может, когда обживусь тут, буду представлять кой-какую ценность для эскадрильи».
И что еще можно было добавить? Что еще сказать женщине, не только женщине, но и единственной матери-полусироте? Разумеется, все обстояло наоборот, но каждый понял бы, что он имел в виду; кто знает — возможно, кто-то мог бы даже предложить постскриптум, например такой:
«P. S. Над тобой великолепно подшутили: позавчера в полдень объявлено перемирие, и, если б ты знала об этом, могла бы совершенно не волноваться до трех часов сегодняшнего дня, два вечера с чистой совестью ходить на чаепитие, как, хочется думать, ты и поступила и даже оставалась на обед, однако, надеюсь, помнила, что от шерри у тебя портится цвет лица».
Только времени не было даже на это. Послышался шум двигателей; выглянув, он увидел перед ангаром три аэроплана, двигатели их работали, механики суетились, и у закрытой двери ангара снова стоял часовой. Потом он заметил незнакомый штабной автомобиль на зеленой лужайке рядом с канцелярией, написал под письмом «любящий тебя Дэвид», сложил его, заклеил конверт и снова, сидя в столовой, увидел, как денщик майора тащит к канцелярии охапку летной экипировки, подумал, что Брайдсмен не высовывал оттуда носа, но тут же увидел Брайдсмена выходящим из ангара, уже одетого к вылету, следовательно, та экипировка принадлежала не ему. Потом дверь столовой отворилась, Брайдсмен вошел со словами: «А ну, быстро…», — и умолк, потому что все уже было при нем: карты, перчатки, шарф, пистолет в наколенном кармане комбинезона. Они вышли и направились к аэропланам, стоящим перед ангаром звена В.