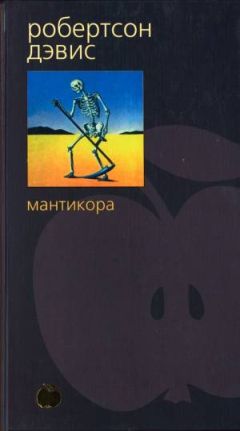Предполагалось, что церемония должна быть смешной, а главным шутом выступал священник. У него были пространные монологи из сценария, вероятно хранившегося некоторыми дамами из комитета со времен, когда в расцвете сил был Джош Биллингс,[28] потому что и в тридцатые свадьба Мальчика с пальчик была старомодной. «Обещаешь ли ты, Мертл, рано вставать и подавать горячий завтрак каждый день недели?» — это была одна из лучших его фраз, на которую Жаба тоненьким голоском отвечала: «Обещаю». Помню, я должен был обещать, что не буду жевать табак в доме и не стану лучшими ножницами жены резать провод для чистки дымохода.
Кульминационный момент, однако, наступал, когда я целовал невесту. Эту сцену тщательно репетировали, и предполагалось, что она вызовет восторг в зале, потому что я, по сценарию, проявлял нетерпение и так часто целовал невесту, что священник, изобразив ужас, должен был развести нас в разные стороны. Беспроигрышная комедия: в ней была та пикантность допустимой похоти, которую любили дамы из женского комитета, а детская невинность придавала сценке особую остроту. Но и здесь я задумал внести усовершенствование. В детстве я не любил, когда надо мной смеялись, и полагал, что мои поцелуи — это слишком серьезно и невыразительная физиономия Жабы Уилсон недостойна их. Несколько раз до этого меня баловали — водили в кино, и я видел в деле всемирно знаменитых мастеров поцелуя. Так что на репетициях я добросовестно следовал дурацким задумкам дам из комитета, но когда настала кульминация самого представления, то я отбросил шляпу, изящно опустился на одно колено, взял недоумевающую лапку Жабы и поднес к губам. Затем поднялся, обхватил ее за бочкообразную талию и запечатал ей губы долгим жгучим поцелуем, в то же время изгибая ее назад, насколько то позволяло ее телосложение. Я полагал таким образом продемонстрировать Дептфорду, чем может стать любовь в руках мастера.
Эффект превзошел все мои ожидания. Публика разразилась охами и ахами — как восторженными, так и неодобрительными. А когда мы с Жабой шли по проходу под хриплые звуки музыки Мендельсона, все взгляды были прикованы не к невесте, а ко мне. Но самое главное — я услышал, как одна из женщин прошептала, со скрытым смыслом, которого я не понял: «А этот малыш, сынок Боя Стонтона, весь в папашу». Чуть позже, когда мы ели мороженое с пирожными за счет комитета, Жаба пыталась подлизаться ко мне, но я оставался холоден. Если выжал из апельсина все соки, пора его выбрасывать — таково было тогда мое жизненное кредо.
Нетти вся изворчалась. «Ты небось очень собой доволен», — вот что она заявила, укладывая меня спать, после чего я закатил форменную истерику. Бабушка решила, что я перенервничал на публике, но главным моим ощущением было разочарование, потому что никто, казалось, не понял, насколько бесподобно я выступил.
(Ах, как нелегко было выуживать все, что удастся вспомнить из моего детства, и предъявлять постороннему человеку. Это сильно отличается от осознания — которое доступно всем — того, что в давние времена ты вел себя плохо. Именно в этот период мне приснился сон — или то было видение, полусон-полуявь, — как я снова стою на том причале и стираю грязь и мазут с лица утопленника; но очистив лицо, я увидел, что это не мой отец: передо мной лежал ребенок, и этим ребенком был я.)
Я стал часто видеть сны, а ведь прежде почти никогда не запоминал их. Доктор фон Галлер попросила меня воспроизвести какие-нибудь сны из моего детства, и хотя я очень сомневался, но вдруг обнаружил, что получается. Скажем, на шестом году жизни мне пригрезился Иисус в небесах: Он плыл куда-то вверх, как на картинах, изображающих Вознесение. Под Его плащом был казавшийся мне частью Его тела земной шар, который Он облекал защитой и словно демонстрировал мне, стоявшему внизу посреди дороги. Что это было — сон или видение средь бела дня? Я так и не смог прийти к однозначному выводу, но воспоминание оказалось удивительно ярким. И, конечно, был мой повторяющийся сон, который я видел так часто; они всегда были чуточку непохожи один на другой, но несли одинаковое ощущение страха и ужаса. В этом сне я находился в замке или крепости, изолированной от внешнего мира, и был хранителем сокровища (иногда, впрочем, мне казалось, что я охраняю божество или идола), природу которого я никогда не понимал, хотя и знал, что ценность его высока. Сокровищу угрожал Враг из внешнего мира; этот Враг переносился от одного окна к другому, искал путь внутрь, а я бегал из комнаты в комнату, чтобы помешать ему. Нетти объясняла этот сон тем, что я читал книгу под названием «Маленький хромой принц»,[29] в которой одинокий мальчик жил в башне. Книга самым деспотичным образом была запрещена. Нетти любила запрещать книги, всегда питала к ним недоверие. Но я-то прекрасно знал, что видел этот сон задолго до того, как прочел книгу, и продолжал его видеть, когда впечатления о «Маленьком хромом принце» почти совсем стерлись из памяти. Интенсивность переживаний в этом сне и ощущение опасности были просто несопоставимы ни с чем книжным.
Мы с доктором Галлер довольно долго бились над этим сном, пытаясь обнаружить ассоциации, которые пролили бы на него свет. И хотя сейчас все совершенно очевидно, тогда мне потребовалось несколько дней, чтобы понять: башня — это моя жизнь, а сокровище — то, что делало ее ценной и достойной защиты от Врага. Но что это за Враг? Тут мы схлестнулись не на шутку, потому что я настаивал: Враг пришел извне, тогда как доктор Галлер все пыталась подвести меня к тому, чтобы я признал: Враг — это часть меня самого, некая недопустимая сущность в Дэвиде, которая ничего не принимает на веру и, увидев сокровище или идола, могла бы и не признать за ним столь высокой ценности. Когда же я наконец переварил эту мысль и неохотно согласился, что доктор, возможно, права, мне захотелось выяснить, что может представлять собой это сокровище, — а вот здесь возражать стала она. Сказала, что лучше повременить и, может быть, ответ придет сам собой.
Доктор фон Галлер: Нам же ни к чему суровые врачебные методы вашего деда, правда? Постараемся обойтись без того, чтобы насаживать вас на этот ненавистный травмирующий штырь. Не горячитесь, пусть природа сама залечит раны, и все будет хорошо.
Я: Знаете, я не боюсь. Хотелось бы не рассусоливать и поскорее покончить с этим.
Доктор фон Галлер: Вы и без того уже достаточно побыли стойким солдатиком, хватит. Поверьте мне, терпение принесет лучшие результаты, чем буря и натиск.
Я: Не хотел бы лишний раз напоминать, но я вовсе не глупый человек. Разве я не достаточно быстро принял (по крайней мере как гипотезу) ваш подход к толкованию снов?
Доктор фон Галлер: Да, верно. Но принять гипотезу отнюдь не то же самое, что усвоить психологическую истину. Мы не выстраиваем интеллектуальную систему, мы стараемся вернуть кое-что забытое и воскрешаем полустершиеся чувства, надеясь увидеть их в новом свете и более того, увидеть в новом свете настоящее. Вспомните, о чем я вам столько раз говорила: мы роемся в сундуке с древним барахлом не ради самого барахла. Нас беспокоит ваша нынешняя ситуация и ваше будущее. Все, о чем мы говорим, прошло, и изменить его невозможно; если бы оно не имело никакого значения, мы бы просто забыли о нем. Но оно имеет значение, если мы хотим привести в порядок настоящее и обеспечить фундамент для будущего.
Я: Но вы тормозите меня. Я готов подписаться под каждым вашим словом. Готов и хочу продвигаться вперед. Я быстро учусь. Я не глуп.
Доктор фон Галлер: Прошу прощения, но вы именно что глупы. Думать и учиться вы умеете — как любой современный образованный человек. Но вы не умеете чувствовать, разве что как дикарь. Случай отнюдь не уникальный, особенно в наши дни, когда умению думать и обучаться придается такое абсурдно важное значение — вот и надумали на свою голову глобальные катастрофы, одна другой краше. Нам же следует пестовать ваше умение чувствовать и убедить вас пользоваться им, как то подобает взрослому мужчине, а не увечному бестолковому ребенку. Вот почему вы не должны так жадно накидываться на психоанализ, а потом говорить: «Ага, понимаю, понимаю!» Дело же не в понимании. Все дело в чувствах. Понимание и ощущение не взаимозаменяемы. Любой теолог понимает мученичество, но ощущает огонь только мученик.
Я не был готов принять это, что повлекло длительную дискуссию; воспроизводить ее в деталях смысла нет, но крутилось все вокруг Платонова представления о том, что человек воспринимает окружающий мир четырьмя основными способами. Я полагал, что имею большую фору, так как досконально изучал «Государство»[30] в студенческие годы в Оксфорде и проникся оксфордским представлением о том, что Платон, опередив время, был настоящим оксфордцем. Да, я помнил теорию Платона о наших четырех средствах восприятия и мог их перечислить: Разум, Способность понимания, Способность суждения, Способность предположения. Но доктор фон Галлер, оксфордов не кончавшая, желала называть их Мышление, Чувствование, Ощущение и Интуиция. Казалось, она была убеждена, что рационально мыслящему человеку невозможно сделать выбор из этих четырех или расставить их в порядке приоритетности, поскольку он естественным образом склоняется к Разуму. Мы являемся на свет предрасположенными к какой-либо из этих четырех категорий и вынуждены исходить из того, что дано нам от рождения.