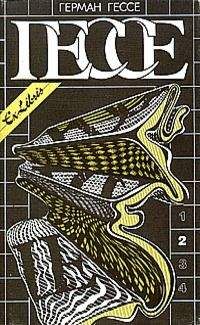Распорядок дня
Взявшись описать, как проходит день на курорте, я по справедливости беру самый обыкновенный, будничный день, день, ничем не примечательный, эдакий наполовину заволоченный, наполовину голубой нейтральный денек, без особых происшествий извне и без особых предзнаменований и обольщений изнутри. Ибо, разумеется, в зависимости от состояния и хода лечения, причем не только у нервных литераторов, но и у всего полка ишиатиков, здесь бывают дни боли и уныния и легкие светлые дни хорошего самочувствия и расцветающих надежд, дни, когда мы скачем, и такие, когда мы едва ползаем или, отчаявшись, остаемся лежать в постели.
Но, как бы я ни старался воссоздать такой умеренный, такой нормально-обывательский плюс-минус средний день, мне все же не избежать одного неприятного признания, поскольку любой день, а тем более лечебно-курортный, к сожалению, начинается с утра. Наверно, это у меня связано с моим глубочайшим недостатком и пороком, с плохим сном, да и вообще всячески отвечает моей натуре, моей философии, моему темпераменту и характеру, иначе как объяснить, что утро, воспетое в стольких чудесных стихах, для меня самое нелюбимое время дня? Конечно, это стыд и срам, и мне тяжело в этом признаться, но какой смысл в писательстве, если за ним не стоит стремление к истине? Утро, прославленное время свежести, обновления, молодого радостного задора, для меня плачевно, оно мне неприятно и мучительно, мы друг друга не выносим. Причем я отнюдь не лишен понимания, способности сопереживать ту лучезарную радость утра, которая так бодряще и светло звучит во многих стихах Эйхендорфа и Мёрике;[13] в стихах, в картинах и в воспоминаниях я воспринимаю утро столь же поэтично, и с детства у меня даже сохранилось не совсем еще изгладившееся воспоминание о настоящем утреннем воздухе, хотя я, уж конечно, много лет ни разу не испытывал по утрам никакой радости. И даже в самой громогласной хвале свежему утреннему воздуху, какую я только знаю, в сочиненной Вольфом музыке к стихам Эйхендорфа «Утро — оно моя радость», мне слышится какая-то фальшивая нотка, и как чудесно ни звучала бы музыка и как ни убеждает меня утреннее настроение самого Эйхендорфа, в утреннюю радость Гуго Вольфа[14] я что-то не могу целиком поверить и склонен думать, что он разрешил себе здесь мечтательно-поэтическое, воображаемо-желанное, а не пережитое прославление утра. Все, что отягощает и усложняет мне жизнь, превращая ее в отпугивающую, даже неприятную повинность, заявляет о себе по утрам непомерно громко, встает передо мной непомерно большим. Все, что мою жизнь красит, услаждает, делает необыкновенной, все милости ее, все волшебство, вся музыка по утрам отступают и едва различимы, звучат издалека, скорее как сказание и легенда. Из чересчур мелкой могилы своего плохого, короткого, часто прерываемого сна я встаю по утрам не окрыленный и воскресший, а вялый, разбитый и нерешительный, безо всякой защиты и панциря против врывающегося внешнего мира, который сообщает моим восприимчивым утренним нервам все свои колебания, словно через мощный усилительный аппарат, обрушивает на меня все звуки как бы в мегафон. Лишь с полудня жизнь опять становится приемлемой и ласковой, а в счастливые дни, под вечер и вечером, — чудесной, лучезарной, воспаряющей, озаренной изнутри мягким господним светом, в ней закон и гармония, волшебство и музыка, и она щедро вознаграждает меня за все скверные часы.
В дальнейшем я при случае думаю рассказать, почему муки бессонницы и утренней хандры представляются мне не просто болезнью, но также и пороком, почему я их стыжусь и, однако, чувствую, что так и должно быть, что я не вправе их ни отвергнуть, ни забыть, ни «исцелить» извне, а, напротив, нуждаюсь в них, как в стимуле и постоянном пришпоривании для моей подлинной жизни и ее назначения.
В одном, правда, день на баденском курорте обладает для меня несомненным преимуществом над днями моей привычной жизни: во время курса лечения каждое утро начинается с важнейшей, основной утренней обязанности и дела, и дело это легкое и даже приятно выполнимое. Я имею в виду прием ванны. Когда я по утрам просыпаюсь, безразлично в котором часу, в перспективе у меня, как первое и важнейшее дело, не что-либо обременительное, не одевание, или гимнастика, или бритье, или чтение почты, а ванна — теплое, приятное, умиротворяющее занятие. Ощущая легкое головокружение, я сажусь в постели, несколькими осторожными движениями вновь привожу в годность закостеневшие ноги, встаю, набрасываю халат и не спеша иду по полутемному, безмолвствующему коридору к лифту, который спускает меня сквозь все этажи в подвал, к ванным кабинам. Здесь внизу очень хорошо. Под каменными, очень старыми, гулкими сводами всегда стоит ровное чудесное тепло, потому что всюду кругом струится горячая вода из источников, и всякий раз меня здесь охватывает то согревающее ощущение пещерной потаенности, какое бывало у меня в детстве, когда я из стола, двух стульев, постельных ковриков или дорожек сооружал себе пещеру. В резервированной мне кабине меня ждет глубокий, утопленный в пол, цементированный бассейн, заполненный горячей водой, только что из источника, я медленно туда спускаюсь по двум каменным ступенькам, переворачиваю песочные часы и, по самый подбородок, погружаюсь в горячую, едкую воду, которая чуточку отдает серой. Высоко надо мной, под цилиндрическим сводом массивно сложенной кабины, очень напоминающей монастырскую келью, в оконце с матовыми стеклами сочится жидкий дневной свет; там наверху, на целый этаж выше меня, за молочным стеклом мир представляется далеким, млечным, ни единый его звук не доходит сюда. А кругом, облегая меня, играет чудесное тепло таинственной воды, которая уже тысячу лет бьет из неведомых кухонь земли и слабым током непрерывно вливается в мою ванну. Согласно предписанию, мне в воде полагается возможно больше шевелить руками и ногами, делать гимнастические и плавательные движения. По обязанности я так и поступаю минуты две-три, но потом неподвижно вытягиваюсь, закрываю глаза, впадаю в полудремоту и слежу за неслышно, непрерывно сыплющейся струйкой в песочных часах.
Занесенный ветром в окно увядший лист, маленький листик с дерева, чье название не приходит мне на память, лежит на краю бассейна, я гляжу на него, читаю письмена его ребер и жилок, вдыхаю тот особый запах тлена, перед которым мы все трепещем и без которого, однако, не существовало бы и красоты. Удивительно, как красота и смерть, радость и тлен необходимы друг другу и друг друга обуславливают! Явственно ощущаю я, словно нечто физическое, и вокруг себя, и в себе самом, границу между природой и духом. Как цветы преходящи и красивы, а золото неизменно и скучно, так и все движения природной жизни преходящи и прекрасны, тогда как неизменен и скучен дух. В этот миг я его отвергаю, рассматриваю дух отнюдь не как вечную жизнь, а как вечную смерть, как нечто косное, бесплодное, бесформенное, что может стать формой и жизнью, лишь отказавшись от бессмертия. Золото должно стать цветком, дух стать телом и душой, чтобы обрести жизнь. Нет, в эти минуты утренней разнеженности, между песочными часами и увядшим листом, я знать ничего не желаю о духе, хотя в другое время способен высоко его чтить, я хочу быть преходящим, хочу быть ребенком, цветком.
А что я преходящ, о том, после получасового лежания в теплой влаге, недвусмысленно напоминает мне момент вставания. Я звонком вызываю банщика, он является и расстилает на стуле подогретую купальную простыню. Я порываюсь подняться на ноги, и тут-то расслабляющее ощущение тленности разливается у меня по всему телу, потому что ванны эти очень утомляют, и когда я, после тридцати-сорокаминутного лежания, хочу подняться, колени и руки лишь нескоро и плохо меня слушаются. Выбравшись из водоема, я набрасываю на плечи простыню, хочу как следует обтереться, хочу сделать несколько энергичных движений, чтобы себя подбодрить, но не могу и вместо того валюсь на стул, чувствуя себя двухсотлетним старцем, и лишь очень нескоро нахожу силы заставить себя встать, надеть рубашку и халат и двинуться в путь.
По тихим сводчатым коридорам, где тут и там за дверьми кабинок журчит вода, я, еле волоча ноги, медленно иду к серному источнику, который под стеклянным колпаком бьется и кипит среди покрытых желтоватым налетом камней. Нельзя не упомянуть загадочную историю, связанную с этим источником. На краю его каменного парапета, к услугам курортников, всегда стоят два стакана, вернее, и в том-то и история, они там не стоят, и каждый жаждущий напиться, подойдя к источнику, обнаруживает, что оба стакана опять исчезли. После чего больной обычно качает головой, в той мере, понятно, в какой курортник после ванны способен выполнить такое движение, и зовет персонал; на его зов прибегает то коридорный, то официант, то горничная или банщица, а то бой, состоящий при лифте, и все точно так же качают головами и ума не могут приложить, куда же опять подевались злополучные стаканы. Немедленно приносится новый стакан, больной его наполняет, пьет из него, ставит на место и уходит, — а когда, два часа спустя, возвращается повторно выпить водицы, стакана опять нет. Служащие, которым загадочная история со стаканами наскучила и доставляет лишнюю работу, выдвигают каждый свою собственную версию пропажи стаканов, но все они мало убедительны. Бой, например, наивно утверждает, будто курортники сами часто уносят стаканы к себе в номер. Но ведь тогда их всякий день находила бы там горничная! Короче говоря, дело остается нераскрытым, а ведь если взять одного лишь меня, то мне вынуждены были уже раз восемь или десять приносить новые стаканы. Поскольку в нашей гостинице около восьмидесяти постояльцев и курортники, все солидный пожилой народ, страдающий подагрой и ревматизмом, вряд ли воруют стаканы, я прихожу к выводу, что стаканы похищает либо патологический коллекционер, либо сказочное существо, дух источника, или дракон, может быть в наказание людям за эксплуатацию источника, и, может быть, когда-нибудь какой-нибудь заблудившийся счастливчик набредет на вход в потайную пещеру, где будут нагромождены целые горы стаканов, потому что, по самым скромным моим подсчетам, там за один только год должно бы накапливаться их не менее двух тысяч.