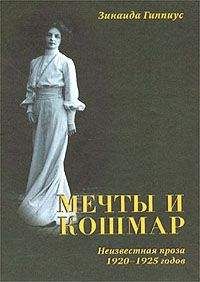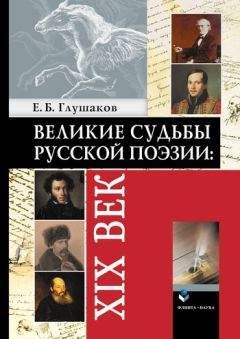Вторая тайна — о России, о людях, сию минуту населяющих Россию. Меня слишком бы далеко завело, если б я вздумала теперь говорить обо всей России, я ограничусь здесь Петербургом как показателем. Все петербуржцы, — но все, сверху донизу, простой народ и остатки интеллигенции равно, за исключением властей и некоторых спекулянтов, — живут исклюгитель-но надеждой на переворот. Они его жаждут, они его ждут, они к нему готовятся каждый день, чуть не каждый час. Мы знаем не только целые учреждения, с виду большевицкие, полные таких людей, но, может быть, целые полки, ждущие лишь момента, лишь знака, чтобы повернуться против своих поработителей. Мы знаем, что летом даже кронштадтские матросы ждали: «Кому бы сдаться? Да никто нас не берет». И летом довольно было двухчасового обстрела, чтобы от большевиков следа не осталось. Эти новые татаре все свои автомобили держали наготове, чтобы удирать.
Я уже не говорю об интеллигенции. Она разъединена физически, но внутренно едина, как никогда; тут соединены даже самые слабые, т. е. ради куска селедки для детей служащие у большевиков. Нельзя требовать, чтобы в целом народе или классе все сплошь были героями. Героев может быть мало или много. И я прямо скажу, что за время большевиков у нас было сотни, тысячи, миллионы героев. Пассивных и активных. Разве не герои — все расстрелянные, после пыток, московские профессора, педагоги, писатели? Разве не герои — тысячи офицеров, которые все-таки не пошли в красную армию, хотя вместе с ними арестовывали их жен и детей. А другие сотни офицеров, полтора года тому назад умершие замурованными буквально в нижних казематах крепости? Это факт, их скученные скелеты когда-нибудь отроют. Оставшееся большинство не имеющих силы идти на гибель своих близких не развратилось все-таки, оно ждет лишь момента, чтобы возникнуть и действовать, ждет первого толчка, новой февральской революции. Самодержавие большевиков горше, хуже николаевского — но дутая власть их слабее, и при самом легком ударе извне — она лопнет, как пузырь, чтобы могли сплотиться разъединенные искусственно Русские силы, мог проснуться от кошмара русский народ. И уж, конечно, конечно, не для создания нового самодержавия, николаевского или ленинского — все равно!
Мы — такие же, как другие, мы лишь часть России подлинной, России февральской, России будущей. Тайну эту, т. е. что Россия вся сейчас готова восстать во имя демократизма и свободы, мы знаем изнутри, как знают там оставшиеся. От их лица, от их имени, за них — мы и говорим. Может быть, голос России не будет услышан. Может быть, Европе суждены еще долгие судороги и потрясения. Может быть, еще тысячи тысяч лучших людей погибнут в России, русских и иностранцев, — как недавно там погиб замечательнейший польский поэт. Все равно, когда-нибудь, кого-нибудь услышат; когда-нибудь поймет Европа, что спасение России — ее спасение, свобода России — ее собственная свобода, и мы верим, поймут это европейские народы — не слишком поздно. Наша крепкая вера, только она и позволяет нам смело сказать теперь, в эту черную, страшную минуту:
Она не погибнет — знайте!
Она не погибнет, Россия…
Они всколосятся, — верьте!
Поля ее золотые.
И мы не погибнем, — верьте!
Но что нам наше спасенье?
Россия спасется — знайте! И
близко ее воскресенье.
«Отрекнемся от старого мира!..» — горланил однажды встречный солдат, лупорожий и пьяный, идучи по Литейному.
Это было давно. Тогда еще была революция; был Литейный проспект.
«Отрекнемся…» Отрекнулись. Да так, что действительно стал один мир — и другой. Европа, Америка и т. д. — один, этот, Совдепия — другой, тот мир, — «тот свет».
Разница между настоящим «тем светом» и Совдепией лишь одна: с настоящего не возвращается, а из Совдепии есть выходцы.
Выходцев с «того», совдепского света не надо смешивать с русскими эмигрантами. Эмигранты — это все покинувшие Совдепию, когда еще там оставались следы России; было еще что-то похожее на «этот» свет; это уехавшие ранее окончательного переворота мира наизнанку. Т. е. ранее того предела, за которым изменения могут происходить уже только в порядке количественном, а не качественном.
Я не знаю, в какой день и час перейден был предел. Но знаю, что этот день и час мы прожили в Совдепии. Мы вывернулись наизнанку. Мы выходцы с полного «того света». Мы понимаем кое-что сверх того, что понимают люди этого света.
Между прочим, мы отлично знаем, удельный вес большевиков, их силу. Для нас, оттуда так ясна была эта «сила», что мы непрерывно изумлялись: неужели зарубежный мир действительно верит, что большевики сильны? Как это может быть?
Теперь, отсюда, я начинаю убеждаться, что это может быть. Издали гигантская русская опухоль, злокачественный фурункул, очень может казаться несведущему, подслеповатому «старому» миру — каменной горой. Для особенно далекого и неосведомленного Ллойд Джорджа скалистые уступы горы уже Достигают облаков… Насколько мужественная, героичная, близкая Польша яснее видит правду! Сейчас происходит величайшее историческое несчастье: слепому дана власть вести зря-чего- Но слепой первый упадет в яму…
Польша — зрячая. Польша видит, что на востоке — не гора, а гнойный нарыв. А мы все, до последнего времени в бывшей России сидевшие, знаем еще больше: знаем то, что делается внутри. Внутри — гниль, прах, смрад, слизь. Нарыв давно готов — для операции. Без операции — он прорвется внутрь европейского организма. Тогда заражение крови, гибель — неизбежны.
Да, большевицкая власть, как и большевицкая красная армия, внутри — гниль, прах, смрад, слизь. Наступление красной армии никогда не может быть длительным. Большевики сразу бросают ее в одно место — «надо нагнать геловегины», — как они выражаются. Человечина гонится вперед, затем, не останавливаясь, катится сама собою назад. Но до сих пор бывало так: пока она еще гонится — «враг» уже устрашен и начинает отступать. Еще бы немножко — и «человечина» неудержимо покатилась назад, тая. Большевики сами не сомневаются в этом. Отсюда их вечная паника — о ней здесь никто не имеет понятия. Не при опасности — при одной тени опасности, — они уже в сумасшедшей истерике, самой бабьей. Начинается метанье, визги, сборы; в комиссариатах — столпотворенье; автомобили все ночи наготове, сверкают белыми огнями.
Большевики — властители, сильны и мужественны, на взгляд несчастного Запада. А мы, видевшие их близко, чуть же, жившие с ними рядом, знаем, что они прежде всего — бабы. Они рыхлы, тупы, беспощадно и крайне истеричны. Не умны — но хитры. Ведь до сих пор, сказать правду, никакая серьезная сила на них упорно и выдержанно не шла; а они, при нас, постоянно кидались друг к другу с выпученными глазами: мы погибли! кончено!
И в то же время, озираясь и надрываясь, кричали: мы победим! Мы совершим чудо!
Не для русских, близких, знающих кричали: для дальних, ничего не знающих, для «старого» мира, который, бедняга, еще слушает их, и верит, и боится…
Безмерное преувеличение силы большевиков, полная слепота к их бабьей и звериной хитрости — вот два несчастья «старого» мира, «этого» света.
Неужели современные выходцы с того света так же немы, как апокрифические выходцы из гробов 2 тысячи лет тому назад? Апокриф повествует, что они могли только писать. Писать и мы можем. Но поймут ли нас, поверят ли нам наконец люди, не побывавшие сами на том свете?
Вот слова Ленина в ноябре 19 года, вскоре после наступления Юденича. Они записаны у меня своевременно, в дневнике, как «сегодняшние откровенности большевиков».
Мы, — объявляет глава Совдепии, — еще только догромим Деникина, а затем начнем заключать миры с соседями. Эстляндия будет первой, важнее всего нам Польша и Финляндия. Нам нужны открытые двери в Европу. И Европа сама нам их откроет (sic!). Никакими условиями мира с буржуазными правительствами смущаться не надо. Мы этих правительств законными не признаем, и договоры с ними для нас не обязательны. Мирный договор для нас — ключ, который отворит дверь к власти рабочим Польши, рабочим Финляндии, рабочим всей Европы. Да здравствует единая советская республика! Наш путь — или всемирная революция — или гибель. Но победит революция, победим мы!»
Эта выписка достаточно выразительна. План ясный, проводится с неуклонностью, — неужели сегодня еще кто-нибудь может этого не видеть?
Напомню всезабывающим следующее: во времена Брестского мира Ленин с той же твердой ясностью сказал, убеждая тех, кто противился принятию немецких «похабных» условий: «примем все условия. Ведь все равно, мы их исполнять не будем».
И сделалось по-сказанному. Укажу хотя бы на два пункта Договора: разоружение красной гвардии и отказ от пропаганды. С момента подписания большевиками пункта о разоружении — началось вооружение и формировка красной армии, ее рождение и усиленный рост. С момента подписания обязательства об отказе от пропаганды — организована была настоящая широкая пропаганда коммунизма в Германии. Представителями Сов. России с Иоффе во главе совершенно открыто стали переправляться в Берлин громадные суммы из России. Дело тут-то и закипело, а чем кончилось — знают все.