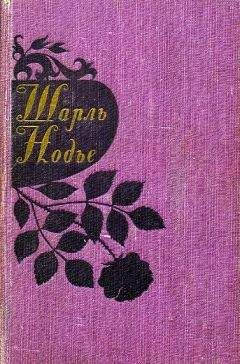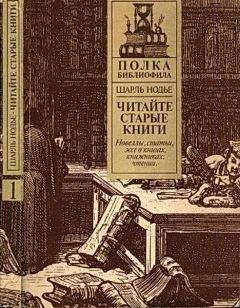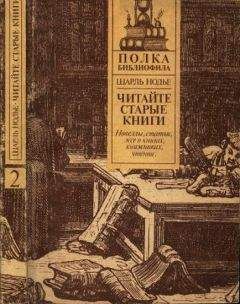— Сегодня вечером я должен позировать, — сказал Филипп привратнице, явившись час спустя после того, как его брат ушел. — Жозеф скоро вернется, я подожду его в мастерской.
Привратница отдала ключ, Филипп поднялся, взял копию, думая, что берет оригинал, потом спустился вниз, отдал ключ привратнице, сделав вид, что забыл что-то у себя дома, пошел и продал «Рубенса» за три тысячи франков. Из предосторожности он от имени брата предупредил Элиаса Магуса, чтобы тот до завтра не приходил. Вечером, когда Жозеф, заходивший за матерью к вдове Дерош, вернулся домой, привратница сообщила ему о странном появлении его брата, который едва успел войти, как уже отправился обратно.
— Я погиб, если Филипп не до конца обнаглел и решил взять только копию! — воскликнул художник, поняв, что произведена кража.
Мигом взбежал он на четвертый этаж, бросился в свою мастерскую и, взглянув на мольберт, сказал:
— Слава богу, на сей раз он оказался тем, чем, увы, будет всегда, — законченным подлецом!
Агата, вошедшая вслед за Жозефом, ничего не поняла, а когда сын объяснил ей происшествие, она, без слез, так и застыла на месте.
— Теперь у меня только один сын! — сказала она слабым голосом.
— Мы не хотели его бесчестить в глазах чужих людей, — ответил Жозеф, — но теперь необходимо предупредить обо всем привратницу. Отныне мы будем брать с собой ключи. Я по памяти окончу его гнусную физиономию, портрет ведь почти готов.
— Оставь его так, как есть: мне будет слишком тяжело на него смотреть, — ответила мать, пораженная в самое сердце и ошеломленная подобной низостью.
Филипп знал, на что предназначены деньги за эту копию, знал, в какую пропасть бросает своего брата, и не остановился ни перед чем. После этого последнего преступления Агата не говорила больше о Филиппе; ее лицо приняло выражение горького отчаяния, холодного и сосредоточенного; одна мысль убивала ее: «Когда-нибудь, — твердила она себе, — мы увидим человека, носящего имя Бридо, на скамье подсудимых».
Через два месяца, утром, когда Агата собиралась в свое лотерейное бюро, явился некий отставной военный, назвавшийся другом Филиппа, и сообщил, что у него неотложное дело к г-же Бридо; в этот момент Агата с сыном сидели за завтраком.
Когда Жирудо назвал себя, мать и сын так и вздрогнули, тем более что у отставного драгуна была мало обнадеживающая физиономия старого морского волка. Его потухшие серые глаза, усы с проседью, взъерошенные клочья волос вокруг желтоватого черепа — все являло облик потрепанный и распутный. Старый темно-серый сюртук, украшенный розеткой ордена Почетного легиона, видимо, с трудом был застегнут на подлинно поварском брюхе, которое вполне гармонировало с большим ртом, от уха до уха, и здоровенными плечами. Тучное туловище покоилось на тоненьких ножках. И в довершение всего красные пятна на скулах выдавали его веселый образ жизни. Высокий потертый галстук из черного бархата подпирал обвислые и морщинистые щеки. Ко всему прочему отставной драгун носил в ушах огромные золотые серьги.
«Вот так гуляй-молодец», — подумал Жозеф, пользуясь народным словечком, проникшим в мастерские художников.
— Сударыня, — сказал дядя, он же кассир г-на Фино, — ваш сын находится в положении столь плачевном, что его друзья вынуждены просить вас разделить с ними довольно тяжелые заботы, в которых он нуждается. Он больше не может выполнять свои служебные обязанности в редакции газеты, и мадемуазель Флорентина, танцовщица в театре «Порт-Сен-Мартен», поместила его у себя на улице Вандом, в жалкой мансарде. Филипп умирает; если его брат и вы не можете оплатить доктора и лекарств, то мы принуждены будем отправить своего друга к Капуцинам, ради его собственного блага. Но будь у вас триста франков, мы бы присмотрели за ним; ему непременно нужна сиделка: он выходит по вечерам, когда Флорентина бывает в театре, пьет разные горячительные напитки, нарушает режим во вред своему здоровью, а так как мы его любим, то он делает нас поистине несчастными. Бедный малый заложил свою пенсию за три года вперед, на его место в газете временно взяли другого, и теперь у него ничего нет. Сударыня, он кончит плохо, если мы не поместим его в лечебницу доктора Дюбуа. В этом приличном убежище берут по десять франков в день. Мы с Флорентиной внесем половину месячной платы, — вы бы внесли другую, а? Послушайте, это продлится всего два месяца.
— Трудно предположить, сударь, что любая мать не была бы обязана вам вечной благодарностью за то, что вы сделали для ее сына, — ответила Агата. — Но я вырвала из сердца своего сына, такого сына, а что касается денег, то у меня их нет. Чтобы не быть в тягость его младшему брату, который работает день и ночь, изнуряет себя и заслуживает безраздельной любви матери, я послезавтра поступаю в лотерейное бюро помощницей управляющего. В моем-то возрасте!
— Ну-с, а вы, молодой человек? — сказал старый драгун Жозефу. — Неужели вы не сделаете для своего брата то, что для него делают бедная танцовщица из «Порт-Сен-Мартен» и старый воин?
— Не хотите ли, — сказал Жозеф, — чтобы я вам объяснил на языке художников цель вашего посещения? Ну, так вот, вы задумали поддеть нас на удочку.
— Значит, завтра ваш брат отправится в Южный госпиталь.
— Там ему будет очень хорошо, — ответил Жозеф. — Если бы я когда-нибудь попал в такое положение, я бы сам отправился туда!
Жирудо ушел весьма разочарованный, чувствуя в то же время глубокое унижение: ему приходилось отправлять к Капуцинам человека, который передавал приказания императора во время битвы при Монтеро.
Спустя три месяца, в конце июля, направляясь утром в свою контору, Агата, шедшая через Новый мост, чтобы не платить за переход по мосту Искусств, заметила возле Школьной набережной, где она проходила у парапета, какого-то человека в рубище, свидетельствующем о нищете, так сказать, второго разряда. Этот человек произвел на нее потрясающее впечатление: она нашла в нем некоторое сходство с Филиппом. Надо заметить, что в Париже есть три разряда нищеты. Прежде всего — это нищета человека, который сохраняет приличную внешность и надежды на будущее: нищета молодых людей, художников, светских людей, временно терпящих нужду. Признаки нищеты такого рода доступны только микроскопу наиболее изощренного наблюдателя. Такие люди составляют конный отряд нищеты — они еще ездят в кабриолетах. Во втором разряде состоят старики, которым все безразлично, в июне они навешивают орден Почетного легиона на свой люстриновый сюртучишко. Это нищета старых рантье, старых чиновников, живущих в Сент-Пэрин; они больше не заботятся о своей внешности. Наконец, последний разряд — нищета в лохмотьях, нищета народа, впрочем, наиболее поэтическая, которую Калло, Хогарт, Мурильо, Шарле, Рафе, Гаварни, Мейсонье — все Искусство обожает и культивирует, особенно во время карнавала!
Человек, в котором Агата узнала, как ей казалось, своего сына, держался между двумя последними разрядами. Она заметила невероятно истрепанный воротничок, облезлую шляпу, заплатанные и стоптанные сапоги, протертое до основы сукно сюртука, осыпавшиеся пуговицы, причем их широко разверзшаяся или съежившаяся обтяжка вполне соответствовала обтрепанным карманам и засаленному вороту. Состояние ворса на сукне, кое-где сохранившегося, свидетельствовало, что если сюртук и содержит что-либо, то разве только пыль. Этот человек вынул черные, как у рабочего, руки из карманов рваных темно-серых штанов. Наконец, на нем была надета побуревшая от носки вязаная шерстяная фуфайка; она высовывалась из рукавов, у пояса, торчала отовсюду и, несомненно, заменяла белье. Филипп носил над глазами козырек из зеленой тафты, укрепленный на медной проволоке. Почти лысая голова и бледное испитое лицо служили верным признаком, что он вышел из страшного Южного госпиталя. Его синий сюртук, побелевший по швам, был по-прежнему украшен орденской розеткой. Поэтому прохожие смотрели на несчастного вояку, по-видимому ставшего жертвой правительства, с любопытством и жалостью: розетка беспокоила взгляд и вызывала у самых свирепых реакционеров чувство неловкости перед орденом Почетного легиона. Хотя к этому ордену и пытались в те времена подорвать уважение, раздавая его без удержу, но во Франции еще не насчитывалось и трех тысяч награжденных. У Агаты мучительно заныло сердце. Если невозможно было любить такого сына, то глубоко страдать из-за него она все еще могла. Охваченная последней вспышкой материнского чувства, она заплакала, увидав, как этот блестящий ординарец императора сделал движение, намереваясь зайти в табачную лавку, чтобы купить сигару, и остановился на пороге; он порылся в кармане, но там ничего не было. Агата быстро пересекла набережную и, сунув свой кошелек в руку Филиппа, бросилась бежать, точно она совершила преступление. Два дня у нее кусок не шел в горло: все время перед ней стояло ужасное лицо сына, умиравшего от голода в Париже.