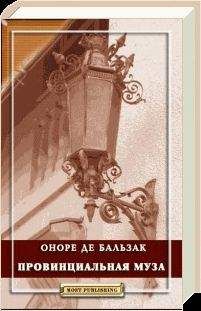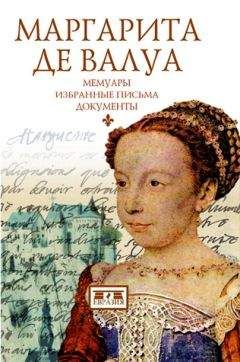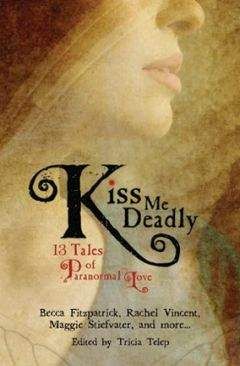— Ах! Этот чистый лист оказывается продолжением обрывка оттиска! Последняя страница обрывка была двести двенадцатая, у нас тут двести семнадцатая! И, право, если тот Ринальдо, который в оттиске крадет у герцогини Олимпии ключ от сокровищ, подменив его более или менее схожим, в этом чистом листе уже попадает во дворец герцогов Браччиано, то роман, по-моему, подходит к какой-то развязке. Я хотел бы, чтоб и вам все стало так же ясно, как мне… На мой взгляд, праздник кончен, оба любовника вернулись во дворец Браччиано, ночь, первый час утра. Ринальдо славное готовит дельце!
— А Адольф? — спросил председатель суда Буаруж, за которым водилась слава любителя вольностей.
— Стиль-то каков! — сказал Бьяншон. — Ринальдо, который нашел убежищем спуститься!..
— Конечно, роман этот напечатан не у Марадана, не у Трейтеля и Вурца и не у Догеро, — сказал Лусто, — у них на жалованье были правщики, просматривавшие корректурные листы, — роскошь, которую должны были бы себе позволить нынешние издатели: нашим авторам это пошло бы на пользу… Должно быть, его написал какой-нибудь торгаш с набережной…
— С какой набережной? — обратилась одна дама к своей соседке. — Ведь говорилось про бани…
— Продолжайте, — сказала г-жа де ла Бодрэ.
— Во всяком случае, автор — не государственный советник, — заметил Бьяншон.
— А может быть, это написано госпожой Адо? — сказал Лусто.
— При чем еще тут госпожа Адо, наша дама-благотворительница? — спросила жена председателя суда у сына.
— Эта госпожа Адо, любезный друг, — отвечала ей хозяйка дома, — была женщина-писательница, жившая во времена Консульства…
— Как? Разве женщины писали при императоре? — спросила г-жа Попино-Шандье.
— А госпожа де Жанлис,[43] а госпожа де Сталь? — ответил прокурор, обидевшись за Дину.
— О!
— Продолжайте, пожалуйста, — обратилась г-жа де ла Бодрэ к Лусто.
Лусто вновь начал чтение, объявив: «Страница двести восемнадцатая!»
218
ОЛИМПИЯ,
поспешностью он ощупал стену и испустил крик отчаяния, когда поиски следов секретной пружины оказались тщетны. Не признать ужасной истины было невозможно. Дверь, искусно устроенная, чтобы служить мести герцогини, не открывалась внутрь. Ринальдо к разным местам приникал щекой и нигде не почувствовал тяги теплого воздуха из галереи. Он надеялся наткнуться на щель, которая указала бы, где кончается стена, но — ничего, ничего! Стена казалась высеченной из цельной глыбы мрамора… Тогда у него вырвался глухой вой гиены…
— Скажите, пожалуйста! А мы-то воображали, будто сами только что выдумали крики гиены! — заметил Лусто. — Оказывается, при Империи литература о них уже знала и даже выводила на сцену, проявляя некоторое знакомство с естественной историей, что доказывается словом «глухой».
— Не отвлекайтесь, сударь, — сказала г-жа де ла Бодрэ.
— Ага, попались! — воскликнул Бьяншон. — Интерес, это исчадие романтизма, и вас схватил за шиворот, как давеча меня.
— Читайте же! — воскликнул прокурор. — Я понимаю!
— Какой фат! — шепнул председатель суда на ухо своему соседу, супрефекту.
— Он хочет подольститься к госпоже де ла Бодрэ, — отвечал новый супрефект.
— Итак, я продолжаю, — торжественно провозгласил Лусто.
Все в глубоком молчании стали слушать журналиста.
219
ИЛИ РИМСКАЯ МЕСТЬ.
Отдаленный стон ответил на вопль Ринальдо; но, в своем смятении, он принял его за эхо, — так слаб и беззвучен был этот стон! Он не мог исходить из человеческой груди…
— Santa Maria![44] — проговорил неизвестный. «Если я двинусь с этого места, то больше мне его не найти! — подумал Ринальдо, когда к нему вернулось его обычное хладнокровие. — Постучать? Но тогда узнают, что я здесь. Как быть?»
— Кто тут? — спросил голос.
— Эге! — сказал разбойник. — Уж не жабы ли здесь разговаривают?
— Я — герцог Браччиано! Кто бы
220
ОЛИМПИЯ,
Вы ни были, если только вы не из людей герцогини, именем всех святых умоляю, подойдите ко мне…
— Для этого нужно знать, где ты находишься, светлейший герцог, — ответил Ринальдо с дерзостью человека, который понял, что в нем нуждаются.
— Я вижу тебя, друг мой, потому что мои глаза привыкли к темноте. Послушай, иди прямо… Так… Поверни налево… Иди… Здесь!.. Вот мы и встретились.
Ринальдо, из предосторожности протянувший руки вперед, наткнулся на железные прутья.
— Меня обманывают! — вскричал разбойник.
— Нет, ты дотронулся до моей клетки…
221
ИЛИ РИМСКАЯ МЕСТЬ.
Садись вон там, на цоколь порфировой колонны.
— Каким образом герцог Браччиано мог очутиться в клетке? — спросил разбойник.
— Друг мой, я тридцать месяцев стою в ней стоймя, ни разу не присев… Но ты-то кто такой?
— Я — Ринальдо, принц Кампаньи, атаман восьмидесяти храбрецов, которых закон напрасно называет злодеями, тогда как все дамы от них без ума, а судьи — те вешают их по застарелой привычке.
— Хвала создателю!.. Я спасен… Всякий добрый человек испугался бы, а я так уверен, что пре-
222
ОЛИМПИЯ,
красно столкуюсь с тобой! — воскликнул герцог. — О мой дорогой освободитель, ты, должно быть, вооружен до зубов…
— Е verissimo![45]
— Есть у тебя?..
— О да, напильники, клещи… Corpo di Basso![46] Я явился сюда позаимствовать на неопределенное время сокровища герцогов Браччиано.
— Ты добрую их долю получишь законно, мой дорогой Ринальдо, и, может быть, я в твоем обществе отправлюсь на охоту за людьми…
— Вы удивляете меня, ваша светлость!..
— Послушай, Ринальдо! Не буду говорить тебе о жажде мести, грызущей мне сердце: я здесь тридцать месяцев — ты ведь итальянец, ты
223
ИЛИ РИМСКАЯ МЕСТЬ.
меня поймешь! Ах, мой друг, моя усталость и этот неслыханный плен — ничто по сравнению с болью, грызущей мое сердце. Герцогиня Браччиано по-прежнему одна из прекраснейших женщин Рима, я любил ее достаточно сильно, чтобы ревновать…
— Вы, ее муж!..
— Да, быть может, я был не прав!
— Конечно, так не делается, — сказал Ринальдо.
— Ревность моя была возбуждена поведением герцогини, — продолжал герцог. — Случай показал мне, что я не ошибся. Молодой француз любил Олимпию, был любим ею, я имел доказательства их взаимной склонности…
— Тысяча извинений, милостивые государыни, — сказал Лусто, — но, видите ли, я не могу не обратить ваше внимание на то, что литература эпохи Империи шла прямо к фактам, минуя всякие детали, а это представляется мне особенностью времен первобытных. Литература той эпохи занимала среднее место между перечнем глав «Телемака»[47] и обвинительными актами прокурорского надзора. У нее были идеи, но эта гордячка не развивала их! Она наблюдала, но эта скряга ни с кем не делилась своими наблюдениями! Один только Фуше делился иногда своими наблюдениями. «Литература тогда довольствовалась, по выражению одного из самых глупых критиков „Ревю де Де Монд“, простым наброском с весьма точным, в подражание античности, изображением персонажей; она не жонглировала длинными периодами!» Верю охотно, она не знала периодов и не знала, как заставить слово заиграть всеми красками; она говорила вам: «Любен любил Туанету, Туанета не любила Любена; Любен убил Туанету, жандармы схватили Любена; он был посажен в тюрьму, предстал перед судом присяжных и был гильотинирован». Яркий набросок, четкая обрисовка! Какая прекрасная драма! А нынче — нынче всякий невежда играет словами.
— Случается, и проигрывает, — буркнул г-н де Кланьи.
— Ого! — ответил Лусто. — Вам, значит, приходилось оставаться при пиковом интересе?
— Что он хочет сказать? — спросила г-жа де Кланьи, обеспокоенная этим каламбуром.
— Я точно в темном лесу, — ответила супруга мэра.
— Его шутка потеряла бы при объяснении, — заметил Гатьен.
— Нынче, — продолжал Лусто, — романисты рисуют характеры, и вместо четкого контура они открывают вам человеческое сердце, они пробуждают в вас интерес к Туанете или Любену.
— А меня так просто ужасает литературная образованность публики, — сказал Бьяншон. — Русские, разбитые Карлом Двенадцатым, кончили тем, что научились воевать;[48] точно так же и читатель в конце концов постиг искусство. Когда-то от романа требовали только интереса; до стиля никому не было дела, даже автору; отношение к идее равнялось нулю; к местному колориту было полнейшее равнодушие. Но мало-помалу читатель пожелал стиля, интереса, патетики, положительных знаний; он потребовал «пяти литературных качеств»: выдумки, стиля, мысли, знания, чувства; потом, вдобавок ко всему, явилась критика. Критик, неспособный придумать ничего, кроме клеветы, объявил, что всякое произведение, не являющееся творением совершенного ума, неизбежно хромает. Тогда явилось несколько плутов, вроде Вальтера Скотта, оказавшихся способными соединить в себе все пять литературных чувств; и те, у кого был только ум, только знание, только стиль или чувство, — эти хромые, безголовые, безрукие, кривые литераторы завопили, что все потеряно, и стали проповедовать крестовые походы против людей, якобы снизивших ремесло, или отрицали их произведения.