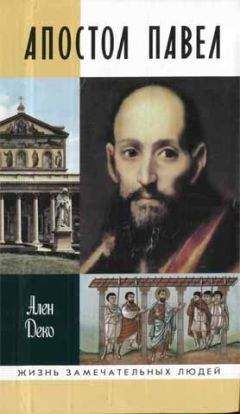– Боже, какое счастье снова тебя увидеть! Было так гнусно без тебя. Почему ты не появлялась?
Она стряхнула его руку и отступила, метнув из-под шляпки нарочито сердитый взгляд:
– Не прикасайся даже! Я ужасно зла, почти решила больше никогда не видеться после этого твоего свинского послания.
– Какого?
– Известно какого.
– Да нет, я не хотел. Ладно, пойдем отсюда куда-нибудь, где хоть поговорить можно. Пошли!
Он взял ее за руку, но она вырвалась, хотя пошла рядом. Шаги ее были короче и быстрее; казалось, сбоку прилепился шустрый зверек вроде бельчонка. В действительности Розмари ростом была всего чуть-чуть пониже Гордона и лишь на полгода моложе. Никому, однако, она не виделась старой девой под тридцать, какой фактически являлась. Живая, энергичная, с густыми черными волосами и очень яркими бровями на треугольном личике, своим овалом напоминавшим портреты шестнадцатого века. Когда она впервые снимала при вас шляпку, поражало несколько резко сверкавших в черной шевелюре белых волосков. И это было характерно для нее – не озаботиться убрать вестников седины. Искренне воспринимая себя юной, она уверенно убеждала в том же и остальных. Хотя, если всмотреться, на лице достаточно явно читались признаки возраста.
Рядом с Розмари Гордон зашагал смелее. Подругу его люди замечали, да и сам он вдруг перестал быть невидимкой для женщин. Розмари всегда выглядела очень мило. Загадка, как ей удавалось изящно одеваться на свои четыре фунта в неделю. Гордону особенно нравилась входившая тогда в моду плоская широкополая шляпка, некое задорно-вольное подобие пасторских головных уборов. Трудно выразить, но дерзкое кокетство этой шляпки как-то весьма гармонично сочеталось с изгибом ее спины.
– Обожаю твою шляпку, – сказал он.
Розмари фыркнула, в уголках губ мелькнул отблеск улыбки.
– Приятно слышать, – ответила она, легонько прихлопнув твердый фетровый край над глазами.
Демонстративную обиду она с лица еще не стерла и старалась идти подчеркнуто самостоятельно. Наконец, когда они выбрались из скопища ларьков, она, остановившись, строго спросила:
– Что ты вообще хотел сказать этим письмом?
– Я?
– Да, вдруг получаю «ты разбила мне сердце».
– Так оно и есть.
– Разве? А следовало бы!
– Может, и следовало.
Ответ прозвучал полушутливо, однако заставил Розмари пристальнее посмотреть на него – на его бледное истощенное лицо, нестриженые волосы, обычный небрежно неопрятный вид. Она сразу смягчилась, хотя брови по-прежнему хмурила. Вздохнув (господи! ну какой несчастный, запущенный!), прильнула к нему, Гордон взял ее за плечи, и она крепко-крепко обняла его, полная нежности и щемящей досады.
– Гордон, ты самое презренное животное!
– Самое?
– Отчего не привести себя в порядок? Пугало огородное. Что за лохмотья на тебе?
– Соответствуют статусу. Знаешь ли, трудновато расфрантиться на два фунта в неделю.
– И обязательно напяливать какой-то пыльный мешок? И пуговица непременно должна болтаться на последней нитке?
Повертев в пальцах висевшую пиджачную пуговицу, она вдруг с чисто женским чутьем заглянула под вылинявший галстук.
– Так я и знала! На сорочке вообще нет пуговиц. Гордон, ты чудище!
– Меня, тебе известно, подобная чепуха не трогает. Дух мой парит над суетой пуговиц.
– Ну что ж ты не отдал свою сорочку, чтобы я, пошлая, их пришила? И, разумеется, опять небритый. Просто свинство! Можно, по крайней мере, бриться по утрам?
– Я не могу себе позволить ежедневное бритье, – с надменным вызовом заявил Гордон.
– А это еще что? Бритье, по-моему, стоит не слишком дорого.
– Дорого! Все на свете стоит дорого. Опрятность, благопристойность, бодрость, самоуважение – это деньги, деньги, деньги! Сколько нужно объяснять?
На вид довольно хрупкая, она вновь с неожиданной силой сжала его, глядя как мать на обозленного малыша.
– Идиотка! – покачала она головой.
– Почему?
– Потому что люблю тебя.
– Правда, любишь?
– Ну да, жутко, без памяти обожаю. По причине явного слабоумия, конечно.
– Тогда пошли, найдем уголок потемнее. Мне хочется поцеловать тебя.
– О, представляю! Целоваться с небритым парнем.
– А что? Острота ощущений.
– Острота, милый, притупилась после двух лет общения с тобой.
– Ладно, пойдем.
Они нашли почти неосвещенный проулок среди глухих стен. Все их любовные свидания проходили в местах подобного уединения, исключительно на свежем воздухе. Гордон развернул ее спиной к мокрым выщербленным кирпичам, и она, доверчиво подняв лицо, обняла его с детской нетерпеливой пылкостью. Однако прижатые друг к другу тела разделял некий оборонный щит. И поцелуй ее был лишь ответным, ребячески невинным. Очень редко удавалось пробудить в ней первые волны страсти; причем она, казалось, потом напрочь об этом забывала, так что каждый раз его натиск начинался словно заново. Что-то в ее красиво скроенном теле и стремилось к физической близости и всячески сопротивлялось. Боязнь расстаться со своим уютным юным миром, где нет секса.
Оторвавшись от ее губ, Гордон проговорил:
– Ты меня любишь?
– Да, мой дурачок. Зачем ты всегда спрашиваешь?
– Так приятно, когда ты это говоришь. Без твоих слов, я как-то теряю веру в твое чувство.
– Почему же?
– Ну, ты ведь можешь передумать. Я, надо признать, отнюдь не идеал для девушки. Тридцать вот-вот и совсем рухлядь.
– Хватит вздор городить! Будто тебе лет сто! Прекрасно знаешь, что мы ровесники.
– Но я-то весь зашмыганный, затрепанный…
Она потерлась щекой о его суточную щетину. Животы их соприкасались, он подумал, что вот уже два года безумно и бесплодно хочет ее. Ткнувшись губами в ее ухо, Гордон прошептал:
– Ты вообще отдаваться собираешься?
– Погоди. Погоди, не сейчас.
– У тебя вечно «погоди», второй год слушаю и жду.
– Ты прав. Что я могу поделать?
Он снял ее смешную шляпку и зарылся лицом в густые черные волосы. Мучительно было так чувствовать тело любимой женщины и не иметь. Приподняв ее маленький упрямый подбородок, он попытался в сумраке разглядеть выражение глаз.
– Скажи, что будешь со мной, Розмари, ну обещай!
– Я тебе повторяю, мне необходимо время.
– Но не до бесконечности! Скажи, что скоро, что как только возникнет возможность?
– Не могу и не буду обещать.
– Розмари, умоляю, скажи «да»! Да?
– Нет.
Держа в ладонях ее невидимое лицо, он прочел:
‘Veuillez le dire donc selon
Que vous estes benigne et doulche,
Car ce doulx mot n’est pas si long
Qu’il vous face mal en la bouche.’[15]
– О чем это? Переведи.
Он перевел:
Вам столь присуща доброта,
Что ваше нежное участье
Должно бы разомкнуть уста
Словечком краткого согласья.
– Гордон, я не могу, честное слово.
– Дорогая моя, «да» ведь произнести гораздо легче, чем «нет».
– Для тебя легче, ты мужчина, а для женщины по-другому.
– Скажи «да», Розмари, ну, повтори за мной – «да»! Да!
– Ох, бедный Гордон! Твой попугай совсем тупица.
– Черт! Не шути на эту тему.
Аргументы иссякли. Вернувшись на людную улицу, они медленно пошли вдоль витрин. Проворное изящество и весь ее независимый вид в сочетании с постоянной шутливостью создавали благоприятнейшее впечатление о развитии, воспитании Розмари. Розмари, дочери провинциального стряпчего, младшей из четырнадцати детей редкого теперь в средних классах огромного бодро-голодного семейства. Сестры ее повыходили замуж, или муштровали школьниц, или стучали на машинках в офисах. Братья пополнили ряды канадских фермеров, цейлонских чайных агентов, воинов каких-то окраинных частей Индо-Британской армии. Как девушка, чья юность избавлена от скуки, с девичеством она расстаться не спешила, оттягивая сексуальное взросление, храня верность дружной бесполой атмосфере родного многодетного гнезда. С молоком матери также впитались два правила: честно вести игру и не соваться в чужую жизнь. По-настоящему великодушная, без всяких склонностей к девичьему коварству, Розмари принимала что угодно от обожаемого Гордона. Великодушна она была настолько, что ни разу и намеком не упрекнула его за отказ нормально зарабатывать.
Гордон все это знал, но сейчас его занимало другое. В кругах света под фонарями рядом с подтянутой фигуркой Розмари он виделся себе неряшливым и безобразным. Очень сокрушало, что с утра не побрился. Украдкой сунув руку в карман и ощутив привычный страх, не потерялась ли монета, Гордон с облегчением нащупал ребро двухбобового флорина, основу его нынешнего капитала. Всего же имелось четыре шиллинга четыре пенса. Ужинать, разумеется, не пригласишь. Опять таскаться взад-вперед вдоль улиц; в лучшем случае, по чашке кофе. Гадство! Буквально ничего и никуда!
– Вот так, – задумчиво резюмировал он. – Как ни крути, все сводится к деньгам.