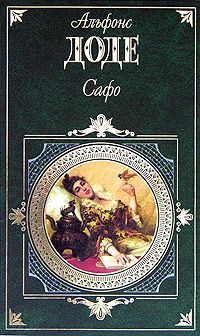Госсену было не до смеха, и Пилар тоже: она следила за тем, как бы не пропали серебряные ложки, или же ловко била мух то на своем приборе, то на рукаве у соседа, а затем, ласково приговаривая: «Кушай, mi amta [4 – Моя душенька (исп.). ], кушай, mi corazon [5 – Мое сердце (исп.). ]!» – кормила ими разлегшуюся на скатерти гнусную тварь, захиревшую, бесформенную и опухшую, как пальцы Сумасбродки.
Разогнав уцелевших мух и углядев жертву на буфете или же на стеклянной двери, она вставала и с торжеством ловила ее. Частые эти набеги в конце концов вывели из себя ее дочь, а она и так сегодня решительно была не в духе.
– Что ты вскакиваешь каждую минуту? Меня это раздражает.
А мать ей ответила на той же смеси двух языков:
– Вы-то сами лопаете, bos otros [6 – Искаженное испанское слово vosotros – вы. ]… А ему нелься?
– Или выйди из-за стола, или сиди смирно… Ты нам надоела…
Старуха огрызнулась, и тут обе начали ругаться, как ругаются ханжи-испанки, мешая образы ада и дьявола с площадной бранью:
– Hija del demonio!
– Cuerno de Satanas!
– Puta!..
– Mi madre!
Жан смотрел на них в ужасе, а гостьи, привыкшие к подобного рода семейным сценам, продолжали спокойно утолять аппетит. Только де Поттер, которому стало неловко перед посторонним, попытался унять их:
– Да будет вам!
Но Роса в бешенстве обернулась к нему:
– Да ты-то чего вмешиваешься?.. Что это еще за манера?.. Хочу говорить и буду говорить!.. А ты ступай к жене!.. Ты мне осточертел – у тебя глаза как у дохлой рыбы, а на голове три волоса… Вот и отнеси их своей индюшке, давно пора!..
Де Поттер выслушал ее с улыбкой, но слегка побледнев.
– Хорошенькая жизнь!.. – пробормотал он себе под нос.
– Вольному воля!.. – прорычала она, всей грудью навалившись на стол. – А то знаешь, двери открыты: фюить!.. Брысь!..
– Успокойся, Роса!..
Тусклые глаза несчастного де Поттера смотрели на нее умоляюще.
А мамаша Пилар, снова принявшись за еду, с такой комической невозмутимостью бросила ему: «Заткнись, мой мальчик!..» – что все покатились с хохоту, даже Роса, даже де Поттер, – он обнял свою все еще ворчавшую возлюбленную, а затем, чтобы умаслить ее, поймал муху, бережно взял за крылышки и преподнес Гаденышу.
И это был де Поттер, прославленный композитор, гордость Национальной школы! Как удалось приворожить его этой женщине, грубой, погрязшей в пороках, да еще вкупе с мамашей, присутствие которой делало ее еще более отвратительной, ибо, точно сквозь увеличительное стекло, показывало, какою Роса станет двадцать лет спустя?..
Кофе подали на берегу озера, в маленьком гроте «рокайль», внутри обтянутом светлым шелком, по которому скользила тень от воды, – в уютном гнездышке для поцелуев, представлявшем собою плод воображения писателей XVIII века, – и его вделанное в потолок зеркало отражало сейчас все ужимки рассевшихся на широком диване старых парок, осовевших после обильной трапезы, отражало Росу с пробившимся сквозь румяна естественным румянцем на щеках, уронившую руки на плечи де Поттера.
– О мой Татав… Мой Татав!..
Однако очень скоро пламя шартреза пересилило пламя любви, и когда одной из дам пришла мысль покататься на лодке, Роса послала де Поттера.
– Но только лодку! Слышишь? Лодку, а не «норвежку»!
– Я скажу Дезире…
– Дезире завтракает.
– В лодке полно воды, надо ее вычерпать, это не так-то просто…
– С вами пойдет Жан… – чтобы предотвратить новую бурю, сказала Фанни.
Они сидели в лодке на скамейках друг против друга и, раздвинув колени, сосредоточенно вычерпывали воду, не обмениваясь ни словом, ни взглядом, словно завороженные той размеренностью, с какой вода выплескивалась из черпаков. Высокая катальпа, вычерчиваясь на ослепительно сверкавшей поверхности озера, простирала над ними душистую прохладу.
– Давно вы связаны с Фанни? – прекратив на время свое занятие, неожиданно спросил композитор.
– Два года… – слегка смутившись, ответил Госсен.
– Всего лишь два года!.. Ну, тогда то, чему вы только что явились свидетелем, может, пожалуй, послужить вам предостережением. Я живу с Росой двадцать лет, двадцать лет прошло с тех пор, как я, вернувшись из Италии – я тогда получил Римскую премию, – однажды вечером пошел в цирк и увидел ее на повороте круга: стоя на одноколке и размахивая хлыстом, она пролетела мимо меня в шлеме, на котором красовались острия пик – их было восемь, – и в кольчуге с золотыми блестками, не доходившей до колен. Ах, если б кто-нибудь мне тогда сказал!..
Снова взявшись за черпак, он начал свой рассказ с того, что на первых порах все только посмеивались над его связью. Когда же дело приняло серьезный оборот, то сколько его родители потратили усилий, сколько они уговаривали его, на какие только жертвы ни шли, чтобы добиться разрыва! Они откупались от нее, но он снова к ней возвращался.
– Испытаем еще одно средство – путешествие, – сказала его мать.
Он отправился в путешествие, возвратился и снова сошелся с наездницей. Тогда его женили на хорошенькой женщине с богатым приданым; в качестве свадебного подарка – обещание, что он будет академиком… Но уже через три месяца он оставил жену ради былой привязанности…
– Ах, молодой человек, молодой человек!..
Де Поттер рассказывал о себе тусклым голосом, и ни один мускул не дрогнул на его маскообразном лице, неподвижном, как крахмальный воротничок, из-за которого ему приходилось держать голову прямо. А мимо них проезжали лодки со студентами и девушками, брызгавшие песнями, молодым и хмельным смехом. Многим из этих несмышленышей следовало бы остановиться и выслушать в поучение страшный рассказ де Поттера…
В тот день у Росы все словно сговорились повлиять на Фанни и разлучить ее с Жаном; в гроте старые модницы наперебой взывали к ее благоразумию:
– Красив твой миленок, но ведь в кармане-то ни гроша… Что с тобой будет?..
– А если я его люблю?..
Роса пожала плечами:
– Да оставьте вы ее!.. Она и своего голландца упустит, как упустила на моих глазах все благоприятные случаи… После истории с Фламаном она кое-чему как будто научилась, а теперь опять за свое; такая же взбалмошная, как и была, даже еще хуже!
– Ay, Vеllаса!.. [7 – Правильно: ay, bellaca (исп.). Здесь в смысле: «Ах ты, дрянь этакая!..»] – проворчала мамаша Пилар.
Тут похожая на клоуна англичанка заговорила с диким акцентом, который долго способствовал ее успеху:
– Полюбить всей душой человека – это прекрасно, моя деточка… Любовь, знаете ли, вещь хорошая… Но вы должны любить еще и деньги… Если я богатая сейчас, как вы думать: мой крупье, что я уродина, сказал бы?..
Тут на англичанку налетел порыв ярости, и голос у нее поднялся до визга.
– Ах, как это ужасно!.. Славиться во всем мире, быть всесветной, быть всем известной, как… как памятник, как… как бульвар… такой известной, что вы сказал: последнему извозчику: «Уилки Коб!» – и он уже знать, где это… Я имела принцы под мои ноги, а короли, когда я плевала, короли говорили: «Красиво плюнула!» А теперь эта мерзкая прощелыга брезгует мной, потому что, видите ли, я безобразный, и я даже не имею чем заплатить ему за одну ночь.
Мысль, что крупье посмел назвать ее уродиной, терзала Коб, и наконец, не выдержав, она распахнула платье:
– Лицо – yes [8 – Да (англ.). ], не спорю, но все остальное: грудь, плечи… Это вам что: не белизна? Это вам что: не упругость?..
Она бесстыдно оголяла свое тело – тело ведьмы, каким-то чудом оставшееся молодым после тридцатилетнего пребывания в адском пекле, а шея и лицо у нее высохли, как у покойницы.
– Лодка готова!.. – крикнул де Поттер.
Англичанка упрятала под платье все, что у нее еще оставалось от молодости, и комически-сокрушенно проговорила:
– Как жаль, что я не могу повсюду ходить гоулоя!..
На фоне пейзажа Ланкре, на фоне кокетливой белизны вилл, особенно ярко сверкавшей среди свежей зелени, вилл, с их террасами и лужками, сбегавшими к озерцу, чешуйчатому при свете солнца, жутью веяло от лодки, принявшей на борт дряхлых и убогих жриц любви: ослепшую Облапошу, старого клоуна и скрюченную Сумасбродку, пропитывавших след от кормы мускусным запахом грима.
Жан, согнувшись, сидел за веслами, и ему было стыдно и страшно: ведь его могут увидеть знакомые в этом аллегорическом зловещем челне и, пожалуй, подумают, что он исполняет какие-то неблаговидные обязанности. Утешением служила ему Фанни: она сидела возле руля, которым правил де Поттер, она ласкала и взор и душу Госсена, и никогда еще ее улыбка не казалась ему такой молодой, – вернее всего, по контрасту.
– Спой нам что-нибудь, деточка!.. – попросила Сумасбродка, разомлев от весеннего воздуха.
Фанни своим выразительным и глубоким голосом запела баркаролу из «Клавдии», а композитор, откликнувшись на зов своего первого большого успеха, подражал с закрытым ртом оркестровому сопровождению, набегающему на мелодию, словно искристая рябь, подергивающая водную гладь. При ярком свете, да еще среди такой красоты, это было чудесно. С террасы одной из вилл долетело: «Браво!» Провансалец, мерно взмахивавший веслами, жадно впивал божественные звуки из уст своей возлюбленной, им овладевало страстное желание прильнуть к ее устам, как в жаркий день припадают к роднику, и, не поднимая головы, не отрываясь, пить, пить, пить.