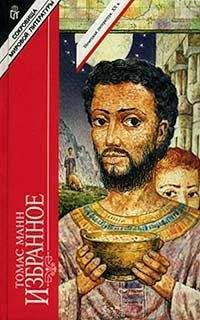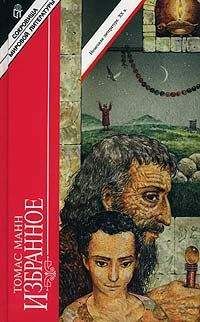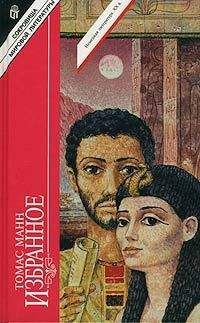Теперь это укрытие сжалось. Когда Кин поднимал глаза от письменного стола, отрезавшего один угол комнаты, взгляд его упирался в бессмысленную дверь. За ней, несомненно, находились три четверти библиотеки, он чувствовал их, он почувствовал бы их и сквозь сто дверей, но только чувствовать то, до чего он прежде дотрагивался, казалось ему горьким. Иногда он корил себя за то, что добровольно разрезал на части единый организм, собственное детище. Книги не были живыми, верно, у них не было чувств, а значит, они не знали и боли, какую испытывают животные, а вероятно, и растения. Но кто действительно доказал бесчувственность неорганического мира, кто знает, не тоскует ли книга по другим, с которыми она долго была вместе, каким-то неведомым для нас образом, отчего мы и не обращаем на это внимания? У каждого мыслящего существа бывают мгновения, когда традиционная граница, установленная наукой между органическим и неорганическим миром, кажется искусственной и устаревшей, как все человеческие границы. Наш тайный протест против такого разграничения выдает себя выражением "мертвая материя". То, что мертво, было живым. Если уж нам приходится признать, что в каком-то веществе нет жизни, то мы все-таки желаем ему, чтобы в прошлом она у него была. Особенно странным казалось Кину то, что книги принято ставить ниже животных. Неужели сильнейшему стимулу, определяющему наши цели, а стало быть — наше существование, принадлежит меньшая роль в жизни, чем нашей бессильной, обреченной на заклание жертве, животному? Сомневаясь во всем этом, он все же подчинялся общепринятому мнению. Сила ученого состоит в том, что все сомнения он ограничивает областью своей специальности. Здесь он дает им волю, и они похожи на непрестанный, неуемный прибой: в остальном же и вообще он покорен господствующему в данный момент. Он обоснованно сомневается в существовании философа Ле-цзы. Он считает выясненным раз навсегда, что Земля вращается вокруг Солнца, а Луна — вокруг нас.
К тому же Кину надо было обдумывать и преодолевать нечто поважнее. Эта мебель внушала ему отвращение. Она мешала ему своей настойчивостью, она вцеплялась в его ученые труды. Место, которое она занимала, не соответствовало ничтожеству ее значения. Он был отдан на ее произвол, во власть этих грубых колод, какое ему дело до того, где он спит и где умывается? Скоро он, пожалуй, начнет говорить о еде, как девять десятых человечества; у кого ее слишком много, говорят о ней еще больше, чем те, у кого не хватает ее.
Он был как раз погружен в восстановление одного текста; слова потрескивали. Жадно, как охотник, напряженно вглядываясь, взволнованный, но холодный, крался он от фразы к фразе. Тут ему понадобилась какая-то книга, он поднялся и пошел за ней. Прежде чем он взял ее, в голову его влезла проклятая кровать. Она порвала четкую связь, она отдалила его на много миль от его дичи. Умывальники перечеркнули великолепнейшие следы. Среди бела дня он увидел себя спящим. Когда он сел за стол, надо было начать сначала, обследовать местность, прийти в подходящее настроение. Для чего эта потеря времени? Для чего эта трата сил и внимания?
Постепенно он проникался ненавистью к этой неуклюжей кровати. Он не заменял ее диваном, тот ведь был еще хуже. Он не удалял ее, ведь другие комнаты принадлежали жене. Она никогда не согласилась бы уступить то, чем завладела однажды. Это он чувствовал, хотя и не говорил с ней об этом. Он и не собирался приступать к переговорам. Ибо теперь у него было одно бесценное преимущество перед ней. Уже несколько недель они не произносили ни слова. Он остерегался нарушить молчание. Лучше было терпеть ночной столик, умывальник и кровать, чем, обезумев, подбить ее на новые разговоры. Чтобы утвердить это положение, он избегал ее комнат. Нужные ему книги он брал оттуда в полдень или вечером после еды, поскольку в столовой ему тогда все равно, как говорил он себе, приходится бывать. Во время еды он не глядел на нее. Тайный страх, что она вдруг что-нибудь скажет, никогда не покидал его вовсе. Но как ни была она неприятна ему, одно он должен был признать: буквы договора она держалась.
Умываясь, Кин закрывал глаза, чтобы в них не попала вода. Это была старая его привычка. Он сжимал веки гораздо крепче, чем нужно было, чтобы не проникла вода. Глаза он старался обезопасить всячески. При новом умывальнике эта старая привычка пригодилась ему. Просыпаясь утром, он радовался предстоявшему умыванию. Ведь в какое другое время был он свободен от этой мебели? Нагнувшись над раковиной, он не видел ни одного из этих предательских предметов. (Все, что отвлекало его от работы, было, по сути, предательством.) Углубившись в раковину, погрузив голову в воду, он любил мечтать о прошлом. В эти минуты царила тайная, тихая пустота. Удачные конъектуры порхали по комнате и ни обо что не ударялись. Никакой диван не поднимал вокруг себя шума, можно было подумать, что его не существует, что это мираж, появившийся у самого горизонта и снова исчезнувший.
Так получилось само собой, что Кин стал находить радость в закрытых глазах. Покончив с умыванием, он не спешил открыть их. Еще некоторое время он жил иллюзией исчезнувшей вдруг мебели. И, еще не подойдя к умывальнику, еще вставая с кровати, он закрывал глаза в предчувствии скорого облегчения. Принадлежа к людям, которые борются со своими слабостями, отдают себе во всем отчет и занимаются самоусовершенствованием, он внушал себе, что это не слабость, а сила. Надо содействовать ей, даже если она превратится в большую странность. Кто узнает об этом, он ведь живет один, а то, что на пользу науке, важнее, чем мнение толпы. Тереза вряд ли застигнет его, как посмеет она, вопреки его запрету, нагрянуть к нему?
Сперва он продлил слепоту на время одевания. Затем стал вслепую добираться до письменного стола. За работой он забывал, что находится у него за спиной, тем более что не видел этого. За письменным столом он давал глазам полную волю. Они радовались своей открытости, делались проворнее. Может быть, они черпали силу в периодах отдыха, которые он отмерял им так щедро. Он оберегал их от внезапных атак. Он пускал в ход глаза лишь там, где от этого был толк: при чтении и письме. Нужные книги он приносил вслепую. Поначалу он сам смеялся над такой странностью. Как часто он доставал не те книги и, не подозревая об этом, с закрытыми глазами возвращался к письменному столу. Тут он замечал, что протянул руку на три тома правее, чем нужно, на один левее или порой даже ниже на целую полку. Это его не смущало, он был терпелив и отправлялся в путь второй раз. Нередко его тянуло покоситься на заголовок, разглядеть корешок, еще не дойдя до места. Тогда он иной раз мигал, а иногда и решался стрельнуть взглядом. Но чаще он превозмогал себя и дожидался письменного стола, где зрение не таило в себе никаких опасностей.
Навык в ходьбе вслепую сделал из него мастера. Прошло три-четыре недели, и он стал находить нужное в кратчайший срок, без обмана и ухищрений, с действительно закрытыми глазами, никакая повязка не ослепила бы его в большей мере. Этот инстинкт он сохранил даже на стремянке. Он хватал ее с обеих сторон длинными цепкими пальцами и вслепую взбирался по ступенькам. Наверху и при спуске он тоже играючи сохранял равновесие. Трудности, которых он в зрячие времена никогда полностью не преодолевал, потому что они были безразличны ему, он теперь походя устранил. Так, например, в состоянии слепоты он научился пользоваться своими ногами. Прежде они мешали ему при каждом движении, для своей длины они были слишком тонки. Теперь они ступали твердо и расчетливо. Они словно бы пополнели, нарастили мышцы и жир, он полагался на них, они были опорой ему. Они видели вместо него, слепого, а он зато помогал им, когда-то неповоротливым, новыми, лучшими ногами.
От некоторых своих привычек он отказывался, пока не был вполне уверен в оружии, которое выковал себе из своих глаз. Отправляясь на утреннюю прогулку, он уже не брал с собой портфеля с книгами. Как легко мог его взгляд, когда он, Кин, целый час нерешительно стоял перед полками, упасть на злосчастную троицу, — так называл он это мебельное трио, которое лишь постепенно, к сожалению, уходило из его сознания. Позднее он осмелел от своих успехов. Дерзко и вслепую он стал наполнять портфель. Если его содержимое вдруг переставало нравиться Кину, он опустошал его и подбирал книги заново, словно все осталось как было — он, библиотека, будущее и точное, практичное распределение часов.
Его комната была во всяком случае в его власти. Наука процветала. Ученые статьи росли как грибы из его письменного стола. Раньше он, правда, издевался над слепыми и презирал их за то, что они радуются жизни, несмотря на этот недостаток. Но как только он сменил свое предубеждение на некое преимущество, соответствующая философия нашлась сама собой.
Слепота — оружие против времени и пространства; наше существование — сплошная, чудовищная слепота, за исключением того немногого, что мы узнаем с помощью наших мелочных чувств — мелочных и по их сути, и по радиусу их действия. Господствующий принцип вселенной — слепота. Она делает возможным сосуществование вещей, которые были бы невозможны, если бы они видели друг друга. Она позволяет обрывать время там, где ты не справляешься с ним. Что такое, например, спора, как не частица жизни, окутанная временно слепотой? Уйти от времени, представляющего собой некий континуум, есть только один способ. Время от времени не видя его, ты разламываешь его на части, по которым его и знаешь.