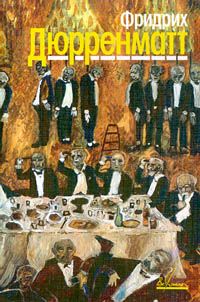Гулливер
Но уже около полуночи комиссар проснулся, потому что со стороны окна послышался какой-то шумок и палата наполнилась прохладным ночным воздухом.
Комиссар не стал сразу включать лампу, а задумался над тем, что могло произойти. Потом догадался, что кто-то медленно поднимает вверх жалюзи. Окружавшая его темнота рассеивалась, в неверном свете призрачно раздувались гардины, он услышал еще, как кто-то осторожно опустил жалюзи. Его снова окутала непроницаемая ночная темнота, но он почувствовал, как от окна отделилась и двинулась в его сторону какая-то фигура.
— Наконец-то, — сказал Берлах. — Вот и ты, Гулливер. — И он включил настольную лампу на тумбочке.
В долгополом сюртуке, старом, заляпанном и рваном, перед ним предстал огромного роста еврей, на которого лампа отбрасывала багровую тень.
Старик опять откинулся на подушку, положив руки под голову.
— Я был почти уверен, что ты навестишь меня этой же ночью. В том, что ты умеешь карабкаться по стенам, я не сомневался, — сказал он.
— Ты мой друг, — ответил пришелец, — вот я и здесь.
У него была крупная лысая голова и искривленные кисти рук, голову и руки покрывали бесчисленные шрамы, следы бесчеловечных пыток, но ничто не могло разрушить впечатления величия, исходившего от лица и фигуры этого человека. Великан стоял посреди комнаты, слегка ссутулившись и прижимая руки к бедрам; его размытая тень прилипла к стене и гардинам, глаза без ресниц, сверкавшие, как два алмаза, с неумолимой пристальностью уставились на старика.
— Откуда тебе стало известно, что у меня появилась необходимость быть в Берне? — проговорил он своим разбитым, почти безгубым ртом.
Он выражался описательно, опасливо, как человек, которому известны пути многих языков и который не сразу находит дорогу немецкого, но говорил он без акцента.
— Гулливер не оставляет следов, — добавил он, помолчав немного. — Я не работаю на виду.
— Каждый оставляет свой след, — возразил комиссар. — Один из них я знаю, вот он: когда ты в Берне, Файтельбах, который тебя укрывает, всякий раз дает в «Анцайгере» объявление, что у него продаются старые книги и почтовые марки. Думаю, в таких случаях у Файтельбаха есть немного денег.
Еврей рассмеялся.
— Великое искусство комиссара Берлаха состоит в том, что он находит простое решение.
— Теперь ты знаешь о своем следе, — сказал старик.
Для криминалиста нет большего греха, чем выбалтывать свои секреты.
— Для комиссара Берлаха я этот мой след оставлю. Файтельбах бедный еврей. Он никогда не сумеет развернуть дело.
После этих слов огромное привидение уселось у кровати старика и достало из кармана сюртука большую покрытую пылью бутылку и две маленькие рюмки.
— Водка, — подчеркнул великан. — Выпьем вместе, комиссар, мы всегда пили вместе.
Берлах принюхался к рюмке, он любил время от времени выпить, но сейчас ему было совестно; он представил себе, какие глаза выкатил бы на него доктор Хунгертобель, если бы увидел все это: водку и еврея в полуночный час, когда ему давно полагалось спать. Ничего себе больной, расшумелся бы Хунгертобель и закатил бы ему сцену, он такой.
— Откуда у тебя водка-то? — спросил он, сделав первый глоток. — Хорошая!
— Из России, — рассмеялся Гулливер. — Мне ее советчики достали.
— Ты что, опять был в России?
— Это мое дело, комиссар.
— Комиссэр, — поправил его Берлах. — В Берне полагается говорить «комиссэр». Ты хотя бы в советском раю не щеголял в своем мерзком сюртуке.
— Я еврей и всегда буду ходить в сюртуке, я себе поклялся. Я люблю национальный костюм моего бедного народа, — ответил Гулливер.
— Налей-ка мне еще водки, — сказал Берлах.
Еврей наполнил обе рюмки.
— Надеюсь, ты не перетрудился, когда лез вверх по стене? — спросил Берлах, наморщив лоб. — Сегодня ночью ты в очередной раз нарушил закон.
— Гулливер не хочет, чтобы его видели, — коротко ответил еврей.
— В восемь уже совсем темно, и тебя наверняка пропустили бы ко мне в «Салем». Никакой полиции тут нет.
— Для меня подняться по фасаду клиники ничего не стоит, — ответил великан и рассмеялся. — Детская забава, комиссар. Вверх по желобу, а потом по выступу стены.
— Повезло тебе, что я на пенсии, — покачал головой Берлах. — Теперь мне не придется больше отвечать за таких, как ты. Мне давно следовало упрятать тебя под замок и прославиться тем самым на всю Европу.
— Ты не сделаешь этого, поскольку знаешь, за что я борюсь, — ответил еврей, не дрогнув ни одним мускулом.
— Тебе стоило бы все-таки обзавестись какими-то документами, — предложил ему старик. — Мне это не слишком-то по вкусу, но, видит Бог, некое подобие порядка должно соблюдаться.
— Я умер, — сказал еврей. — Нацисты расстреляли меня.
Берлах промолчал. Он знал, на что намекает великан.
Где-то вдали башенные часы пробили двенадцать раз. Еврей налил водки. Его глаза весело блеснули, но веселье это было не житейского, а высшего порядка.
— Когда прекрасным майским днем сорок пятого года — хорошо помню маленькое белое облачко над головой — наши друзья из СС по ошибке оставили меня в живых в какой-то паршивой яме для гашения извести, поверх тел пятидесяти мужчин, выходцев из моего несчастного народа, когда несколько часов спустя я, весь в крови, спрятался в кустах сирени, которая цвела недалеко оттуда, так что расстрельная команда меня упустила из виду, я поклялся, что отныне я всегда буду жить жизнью последней поруганной скотины, раз уж Господу Богу угодно, чтобы нам зачастую жилось как животным. С тех пор я жил во тьме могильных ям и склепов, в подвалах и тому подобных местах, и только ночь видела мое обличье, только звезды да месяц отбрасывали свой свет на этот жалкий сюртук с тысячью дыр. Все идет, как надо. Немцы убили меня, и я обнаружил у моей жены-арийки — сейчас она мертва, и в этом ей повезло — свидетельство о моей смерти, доставленное ей рейхспочтой; оно заполнено по всем правилам, что делает честь выпускникам школ, в которых этот народ воспитывают для цивилизованной жизни. Мертв так мертв, и это относится и к еврею, и к христианину, прости меня за эту очередность, комиссар. У мертвого не может быть документов, согласись, и границ для него тоже не существует; он может прийти в любую страну, где есть гонимые и истязаемые евреи. Прозит, комиссар, я пью за наше здоровье!
И мужчины опустошили свои рюмки; мужчина в сюртуке снова налил водки и проговорил, зажмурившись, так что глаза его превратились в две сверкающие щелочки:
— Что тебе от меня нужно, комиссар Берлах?
— Комиссэр, — поправил его старик.
— Комиссар, — стоял на своем еврей.
— Мне нужны от тебя кое-какие сведения, — сказал Берлах.
— Сведения — это хорошо сказано, — рассмеялся великан. — Важные сведения на вес золота. Гулливеру известно больше, чем полиции.
— Поглядим. Ты как-то упомянул при мне, что побывал во всех концлагерях. Вообще-то ты о себе рассказывать не любишь, — сказал Берлах.
Еврей наполнил рюмки.
— Некогда к моей особе отнеслись с таким подчеркнутым уважением, что меня таскали из одного круга ада в другой, и было их больше девяти, воспетых Данте, который не был ни в одном. После этого я в моей посмертной жизни ношу на себе здоровенные шрамы, — он вытянул левую руку, которая была изувечена.
— Не знал ли ты случайно врача-эсэсовца по фамилии Нэле? — нетерпеливо спросил старик.
Какое-то мгновение еврей в задумчивости смотрел на комиссара.
— Ты говоришь об этом, из лагеря Штуттхоф? — спросил он.
— О нем самом, — подтвердил Берлах.
Великан насмешливо взглянул на старика.
— Он покончил с собой в дешевой гамбургской гостинице десятого августа сорок пятого года, — сказал он несколько погодя.
Берлах с огорчением подумал: «Черта с два Гулливер знает больше полиции».
А вслух проговорил:
— Приходилось тебе в твоей жизни — или как еще это называется — встречаться с Нэле?
Оборванец-еврей испытующе взглянул на комиссара, и его покрытое шрамами лицо исказила гримаса.
— Почему ты спрашиваешь меня об этом отъявленном негодяе?
Поразмыслив, насколько откровенным он может быть с евреем, Берлах решил все-таки скрыть свои подозрения насчет Эмменбергера, оставив их при себе. Поэтому ограничился тем, что сказал.
— Я видел его фотографию. И меня интересует, что с ним стало. Я больной человек, Гулливер, мне еще долго придется пролежать тут; все время читать Мольера не получается, вот и приходят в голову разные мысли. Меня гложет такая: что они за люди, массовые убийцы вроде Нэле?
— Все люди одинаковые. Нэле был человеком. Выходит, был похож на всех других. Это неверный, вероломный силлогизм, но опровергнуть его никто не сможет, — ответил великан, не спуская глаз с Берлаха, крупное лицо которого оставалось непроницаемым. — Насколько я понимаю, комиссар, ты видел фотографию Нэле в «Лайфе», — продолжал еврей. — Это его единственная, других нет. Сколько их ни искали в этом прекраснейшем из миров, ни одной не обнаружили. Это тем более горестно, что на снимке в «Лайфе» лица этого легендарного палача почти не видно.