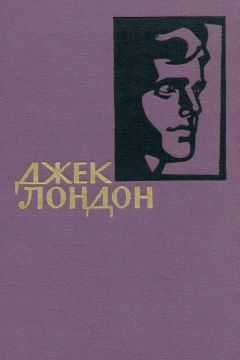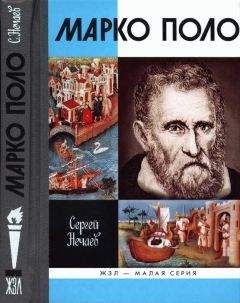Ивэн Грэхем, прислушиваясь к этой песне и не сводя глаз с руки Форреста, властно обнимавшей Паолу, почувствовал какую-то боль и обиду; у него даже мелькнула мысль, которую он тотчас с негодованием подавил: «Дику Форресту везет, слишком везет».
— "Я — Ай-Кут, — распевал Дик. — Это моя жена, моя росинка, моя медвяная роса. Я вам солгал. Ее отец и мать не кузнечик и не кошка. Это были заря Сьерры и летний восточный ветер с гор. Они любили друг друга и пили всю сладость земля и воздуха, пока из мглы, в которой они любили, на листья вечнозеленого кустарника и мансаниты не упали капли медвяной росы.
Ио-то-то-ви — моя медвяная роса. Внемлите мне! Я — Ай-Кут. Ио-то-то-ви — моя жена, моя перепелка, моя лань, пьяная теплым дождем и соками плодоносной земли. Она родилась из нежного света звезд и первых лучей зари".
И вот, — добавил Форрест, заканчивая свою импровизацию и возвращаясь к обычному тону, — если вы еще воображаете, что старый, милый, синеокий Соломон лучше меня сочинил «Песнь Песней», подпишитесь немедленно на издание моей.
Миссис Мэзон одна из первых попросила Паолу сыграть. Тогда Терренс Мак-Фейн и Аарон Хэнкок разогнали веселую группу у рояля, а смущенный Теодор Мэлкен был послан пригласить Паолу.
— Прошу вас сыграть для просвещения этого язычника «Размышления на воде», — услышал Грэхем голос Терренса.
— А потом, пожалуйста, «Девушку с льняными косами», — попросил Хэнкок, которого назвали язычником. — Сейчас моя точка зрения блестяще подтвердится. Этот дикий кельт проповедует идиотскую теорию музыки пещерного человека и настолько туп, что еще считает себя сверхсовременным.
— А-а, Дебюсси! — засмеялась Паола. — Все еще спорите о нем? Да? Хорошо, я доберусь и до него, только не знаю, с чего начать.
Дар-Хиал присоединился к трем мудрецам, усаживавшим Паолу за большой концертный рояль, не казавшийся, впрочем, слишком большим в этой огромной комнате. Но едва она уселась, как три мудреца скользнули прочь и заняли, видимо, свои любимые места. Молодой поэт растянулся на пушистой медвежьей шкуре, шагах в сорока от рояля, и запустил обе руки в волосы. Терренс и Аарон уютно, устроились на подушках широкого дивана под окном, впрочем, так, чтобы иметь возможность подталкивать друг друга локтем, когда тот или другой находил в исполнении Паолы оттенки, подтверждавшие именно его понимание.
Девушки расположились живописными группами, по две и по три, на широких диванах и в глубоких креслах из дерева коа, кое-кто даже на ручках.
Ивэн Грэхем хотел было подойти к роялю, чтобы иметь честь перевертывать Паоле ноты, но вовремя заметил, что Дар-Хиал предупредил его. Неторопливо и с любопытством окинул он взглядом комнату. Концертный рояль стоял на возвышении в самом дальнем ее конце; низкая арка придавала ему вид сцены. Шутки и смех сразу прекратились: видимо, маленькая хозяйка Большого дома требовала, чтобы к ней относились, как к настоящей, серьезной пианистке. Грэхем решил заранее, что ничего исключительного не услышит.
Эрнестина, сидевшая рядом, наклонилась к нему и прошептала:
— Когда она хочет, она может всего добиться. А ведь она почти не работает… Вы знаете, она училась у Лешетицкого и у мадам Карреньо, и у нее до сих пор остался их стиль игры. И она играет совсем не поженски. Вот послушайте!
Грэхем продолжал относиться скептически к ее игре, даже когда уверенные руки Паолы забегали по клавишам и зазвучали пассажи и аккорды, против чистоты которых он ничего не мог возразить; как часто слышал он их у пианистов, обладавших блестящей техникой и совершенно лишенных музыкальной выразительности! Он ждал услышать от нее все что угодно, но не мужественную прелюдию Рахманинова, которую, по мнению Грэхема, мог хорошо исполнять только мужчина.
С первых же двух тактов Паола уверенно, по-мужски, овладела роялем; она словно поднимала его клавиатуру и поющие струны обеими руками, вкладывая в свою игру зрелую силу и твердость. А затем, как это делали только мужчины, соскользнула, или перекинулась — он не мог найти более точного определения для этого перехода — в уверенно-чистое, несказанно нежное анданте.
Она продолжала играть со спокойствием и силой, которых меньше всего можно было ожидать от такой маленькой, хрупкой женщины; и он с удивлением смотрел сквозь полузакрытые веки на нее и на огромный рояль, которым она владела так же, как владела собой и замыслом композитора. Прислушиваясь к замирающим аккордам прелюдии, в которых еще жила, как далекое эхо, только что прозвучавшая мощь, Грэхем вынужден был признать, что удар у Паолы точен, чист и тверд.
В то время как Терренс и Аарон взволнованно спорили шепотом на своем подоконнике, а Дар-Хиал искал для Паолы ноты, она взглянула на Дика, и он начал один за другим гасить свет в матовых шарах под потолком, так что в конце концов одна Паола осталась как бы среди оазиса мягкого света, в котором особенно заметно поблескивало золото ее волос и золотое шитье на платье.
Грэхем наблюдал, как высокая комната становится от набегающих теней как будто еще выше. Она была длиной в восемьдесят футов и высотой в два с половиной этажа. Точно хоры под потолком была перекинута галерея, с которой свешивались шкуры диких зверей, домотканые покрывала, привезенные из Окасаки и Эквадора, циновки с острова Океании, сплетенные женщинами и выкрашенные растительными красками. И Грэхем понял, что напоминает ему эта комната: праздничный зал в средневековом замке; и он вдруг пожалел, что в ней нет длинного стола с оловянной посудой, солью в серебряной солонке и огромных собак, дерущихся тут же из-за брошенных им костей.
Позднее, когда Паола сыграла Дебюсси, чтобы дать Терренсу и Аарону материал для новых споров, Грэхему удалось в течение нескольких волнующих минут поговорить с ней о музыке. И она обнаружила такое понимание философии музыки, что Грэхем, сам того не замечая, принялся излагать, ей свою любимую теорию.
— Итак, — закончил он, — понадобилось почти три тысячи лет, чтобы музыка оказала свое истинное воздействие на душу западного человека. Дебюсси больше чем кто-либо из его предшественников достиг той высокой созерцательной ясности, порождающей великие идеи, которая предощущалась, скажем, во времена Пифагора…
Тут Паола прервала его, подозвав сражавшихся у окна Терренса и Аарона.
— Ну и что же? — продолжал Терренс, когда оба подошли. — Попробуйте, Аарон, попробуйте найти у Бергсона суждение о музыке более ясное, чем в его «Философии смеха»[6], которая тоже, как известно, ясностью не отличается.
— О, послушайте! — воскликнула Паола, и глаза ее заблестели. — У нас появился новый пророк — мистер Грэхем. Он стоит вашей шпаги, обеих ваших шпаг. Он согласен с вами, что музыка — это отдых от железа, крови и будничной прозы. Что слабые, чувствительные и возвышенные души бегут от тяжелой и грубой земной жизни в сверхчувственный мир ритмов и звучаний…
— Атавизм! — фыркнул Аарон Хэнкок. — Пещерные люди, полуобезьяны и все гнусные предки Терренса делали то же самое.
— Позвольте, — остановила его Паола. — Но ведь к этим выводам мистер Грэхем пришел на основании собственных переживаний и умозаключений. А кроме того, он коренным образом расходится с вашей точкой зрения, Аарон. Он опирается на положение Патера: «Все искусства тяготеют к музыке…»
— Все это относится к предыстории, к химии микроорганизма, — опять вмешался Аарон. — Все эти народные песни и синкопированные ритмы — простое реагирование клетки на световые волны солнечного луча. Терренс попадает в заколдованный круг и сам сводит на нет свои заумные рассуждения. А теперь послушайте, что я вам скажу…
— Да подождите же! — остановила его Паола. — Мистер Грэхем говорит, что английский пуританизм сковал музыку — настоящую музыку — на многие века…
— Верно… — согласился Терренс.
— И что Англия вернулась к эстетическому наслаждению музыкой только через ритмы Мильтона и Шелли…
— Который был метафизиком, — прервал ее Аарон.
— Лирическим метафизиком, — тотчас же ввернул Терренс. — Это-то уж вы должны признать, Аарон.
— А Суинберн? — спросил Аарон, очевидно, возвращаясь еще к одной теме из давнишних споров.
— Аарон уверяет, что Оффенбах — предшественник Артура Сюлливена, — вызывающе воскликнула Паола, — и что Обер — предшественник Оффенбаха. А относительно Вагнера… Нет, спросите-ка его, спросите, что он думает о Вагнере…
Она ускользнула, предоставив Грэхема его судьбе. А он не спускал с нее глаз, любуясь пластичными движениями ее стройных колен, приподнимавших тяжелые складки платья, когда она шла через всю комнату к миссис Мэзон, чтобы устроить для нее партию в бридж; он едва мог заставить себя вслушаться в то, что опять бубнил Терренс.
— Установлено, что все искусства Греции родились из духа музыки…