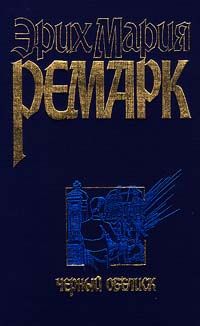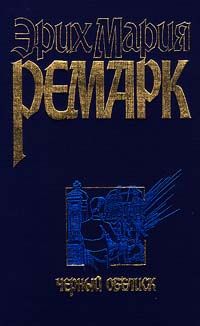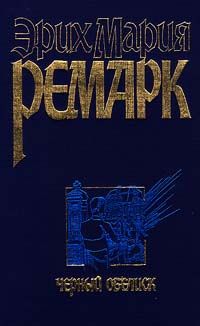— Нет. Она была как всегда. Может быть, немного возбужденнее. Но вы сказали, что это от грозы…
— Посмотрим. Тут у нас трудно предсказывать что-либо заранее.
Бодендик смеется.
— Безусловно, нельзя. Здесь — никак нельзя. Я смотрю на него. Какой он грубый, этот христианин, думаю я. Но потом мне приходит в голову, что ведь он по профессии — духовный целитель, а в подобных случаях всегда утрачивается какая-то доля душевной чуткости за счет способности воздействия, так же как у врачей, сестер и торговцев надгробиями.
Я слышу его разговор с Вернике. У меня вдруг пропадает аппетит, и я подхожу к окну. За волнующимися кронами деревьев выросла, как стена, огромная туча с тускло-бледными краями. Я смотрю в ночь. Все вдруг кажется мне очень чужим, И сквозь привычную картину сада властно и безмолвно проступает что-то иное, дикое, и оно отбрасывает привычное, словно пустую оболочку. Мне вспоминается восклицание Изабеллы: «Где же мое первое лицо? Мое лицо до всяких зеркал?» Да, где наше первоначальное лицо? — размышляю я. — Первоначальный ландшафт, до того как он стал вот этим ландшафтом, воспринимаемым нашими органами чувств, парком и лесом, домом и человеком? Где лицо Бодендика, до того как он стал Бодендиком? Лицо Вернике, пока оно не связалось с его именем? Сохранилось ли у нас какое-то знание об этом? Или мы пойманы в сети понятий и слов, логики и обманщика разума, а за ними одиноко горят первоначальные пламена, к которым у нас уже нет доступа, оттого что мы превратили их в полезное тепло, в кухонное и печное пламя, в обман и достоверность, в буржуазность и стены и, во всяком случае, в турецкую баню потеющей философии и науки. Где они? Все ли еще стоят неуловимые, чистые, недоступные, за жизнью и смертью, какими они были до того, как превратились для нас в жизнь и смерть? Или они, может быть, теперь горят только в тех, кто живет здесь, в комнатах за решетками, кто сидит на полу или неслышно крадется, уставясь перед собой невидящим взглядом, ощущая в своей крови родную грозу? Где граница, отделяющая хаос от стройного порядка, и кто может перешагнуть через нее и потом возвратиться? А если ему это и удастся — кто в состоянии запомнить то, что он увидел? Разве одно не гасит воспоминаний о другом? И кто безумен, отмечен, отвергнут — мы ли, с нашими замкнутыми и устойчивыми представлениями о мире; или те, другие, в ком хаос бушует и сверкает грозовыми вспышками; те, кто отдан в жертву беспредельности, словно они комнаты без дверей, без потолка, словно это покои с тремя стенам и, в которые падают молнии и врывается буря и дождь, тогда как мы гордо расхаживаем по своим замкнутым квартирам с дверями и четырьмя стенами и воображаем себя выше тех лишь потому, что ускользнули от хаоса? Но что такое хаос? И что такое порядок? В ком они есть? И зачем? И кому удастся когда-нибудь из них выскользнуть?
Над краем парка проносится тусклая вспышка, и лишь спустя долгое время на нее отвечает очень далекое ворчание. Подобно залитой светом каюте, наша комната плывет среди ночи, в которой нарастает угроза, точно где-то пленные гиганты сотрясают свои цепи и готовы вскочить и уничтожить наше племя карликов, заковавших их на краткий срок. Каюта, светящаяся в темноте, книги и три упорядоченных ума в этом доме, где, будто в ячейках улья, заперта загадочная стихия, дающая грозные вспышки в расстроенном мозгу больных! Что, если бы их всех пронзила внезапная молния незнания и они объединились бы для мятежа; что, если бы они разбили замки, сломали болты и, как пенящаяся серая волна, плеснули бы вверх по лестнице и окружили эту освещенную комнату, эту каюту и, как волны, неудержимо помчали бы ее во мрак и в то безыменное, еще более мощное, что стоит за мраком?
Я оборачиваюсь. Служитель веры и служитель науки сидят в лучах света, озаряющего их. Для них мир — не смутная, трепетная тревога, он не ворчанье бездны, не грозовые вспышки в леденящем эфире — они служители веры и науки, у них есть отвес и лот, весы и меры, у каждого свои, но это их не тревожит, они уверены в себе, у них есть имена и фамилии, которые они могут наклеивать на все, словно этикетки; они крепко спят по ночам, они стремятся к определенной цели, и этого для них достаточно, и даже ужас, даже черный занавес перед самоубийством занимает соответствующее, определенное место в их существовании, оно имеет название, классифицировано и потому стало неопасным. Убивает только безыменное или то, что взорвало свое имя.
— Молнии, — замечаю я.
Доктор поднимает голову.
— В самом деле?
Он как раз занят разъяснением недуга, именуемого шизофренией, — болезни, постигшей Изабеллу. Его смуглое лицо от увлечения слегка порозовело. Вернике рассказывает о том, как страдающие этой болезнью способны с быстротою молнии словно переноситься из одной личности в другую, — в старину таких больных считали то святыми и провидцами, то одержимыми дьяволом, и народ относился к ним с суеверным почтением. Потом он начинает философствовать о причинах болезни, и я вдруг удивляюсь, откуда ему все это известно и почему он называет шизофрению болезнью. Разве нельзя было бы с таким же успехом считать ее особым видом душевного богатства? Разве в самом нормальном человеке не сидит с десяток личностей? И не в том ли разница только и состоит, что здоровый в себе их подавляет, а больной выпускает на свободу? И кого в данном случае считать больным?
Я подхожу к столу и выпиваю свой стакан вина. Бодендик смотрит на меня с благоволением; Вернике — так, как смотрят на совершенно неинтересный случай. Только сейчас я ощущаю вкус вина: я чувствую, что оно хорошее, установившееся, вызревшее и не легкомысленное. В нем уже нет хаоса, думаю я. Вино претворило его, претворило в гармонию. Но претворило, а не просто заменило одно другим. Оно не уклонилось от хаоса. И вдруг на мгновение, сам не знаю почему, я испытываю невыразимое счастье. Значит, можно! — говорю я себе. — Значит, можно претворить хаос! Значит, существует не только дилемма: или то, или другое. Значит, одно может привести к другому.
Бледная вспышка вновь метнулась в окно и погасла.
Врач встает.
— Началось. Мне пора идти к тем, кто заперт. Запертые — это те больные, которые никогда не выходят из своих комнат. Они остаются в них, пока не умрут, в палатах, где мебель накрепко привинчена к полу, окна забраны решетками, а двери отпираются только снаружи. Они сидят в этих клетках, словно опасные хищники, и о них говорят с неохотой.
Вернике смотрит на меня.
— Что это у вас с губой?
— Ничего. Нечаянно прикусил во сне.
Бодендик смеется. Дверь открывается, и маленькая сестра вносит дополнительную бутылку вина и три стакана. Вернике уходит вместе с сестрой. Бодендик тянется к бутылке и наливает себе. Теперь мне понятно, почему он предложил Вернике выпить вместе с нами: ведь старшая сестра прислала нам еще бутылку. Для трех мужчин одной было бы недостаточно. Вот хитрец, думаю я. Он повторил чудо кормления народа во время Нагорной проповеди. Один стакан вина, выпитый Вернике, он превратил для себя в целую бутылку.
— Вероятно, вы больше не будете пить? — обращается ко мне викарий.
— Нет, буду, — отвечаю я и сажусь за стол. — Я вошел во вкус. Это вы меня научили. Благодарю от души.
Бодендик с кисло-сладкой улыбкой снова вынимает бутылку из ведерка со льдом. Изучает этикетку перед тем, как налить мне всего четверть стакана. Себе он наливает почти до краев. Я спокойно беру у него из рук бутылку и тоже доливаю свой стакан.
— Господин викарий, — замечаю я, — различия между нами не так уж велики.
Вдруг Бодендик начинает хохотать. Лицо его расцветает, словно роза в Троицын день.
— Будем здоровы, — говорит он елейным тоном.
Гроза ворчит и переходит с места на место. Словно беззвучные удары сабель, падают молнии. Я сижу у окна своей комнаты, передо мной порванные в клочья письма Эрны, они лежат в пустой слоновьей ноге, которую в качестве корзины для бумаг мне подарил великий путешественник Ганс Ледерман, сын портного Ледермана.
С Эрной все кончено. Для большей убедительности я перечислил все ее неприятные черты; и эмоционально, и по-человечески я вытравил ее из себя, а в виде десерта прочел несколько глав из Шопенгауэра и Ницше. Все же я предпочел бы иметь смокинг, машину и шофера и с двумя-тремя знаменитыми актрисами и несколькими сотнями миллионов в кармане заявиться в «Красную мельницу», чтобы нанести этой змее смертельный удар. Я мечтаю некоторое время о том, как здорово было бы, если бы она прочла в утренней газете сообщение, что я выиграл главный приз или был тяжело ранен, спасая детей из пылающего дома. Потом я замечаю свет в Лизиной комнате.
Она открывает окно и делает кому-то знаки. В моей комнате темно, и ей меня не видно.
Значит, она имеет в виду не меня. Лиза что-то беззвучно говорит, указывает на свою грудь, затем на наш дом и кивает. Свет в ее комнате гаснет.