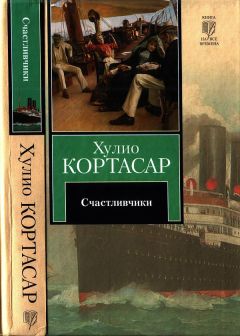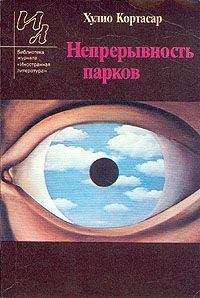Начало почти всегда одинаковое: впечатляющее внутрифракционное соглашение по куче вопросов при большом взаимном доверии, но в какой-то момент нелитературные члены, любезно обратившись к членам литературным, в тридесятый раз поставят перед ними вопрос о направленности, о понятности для наибольшего числа читателей (или слушателей, или зрителей, но в основном – о да – читателей).
В подобных случаях Лукас склонен отмалчиваться, ибо его книжонки уже высказались за него, но так как порою на него все же более или менее дружески наседают (что и говорить – нет дружественнее тумака, чем от лучшего дружка), Лукас делает кислое выражение лица и выделяет из себя, скажем, такое:
– Друзья, вопрос подобный никогда
не стал бы ставить, я вас уверяю,
писатель, твердо верящий в свое
предназначенье носовой скульптуры, летящей с носом корабля вперед,
наперекор ветрам и соли. Точка.
А ставить он его не стал бы, ибо
(поэт,
писатель рассказчик
и бытописатель),
то бишь мечтатель, выдумщик, художник,
оракул, мифотворец и т.п.,
своей первейшею задачей ставит
язык как средство, чье посредство нас
связует постоянно со средой.
Короче на два тома с приложеньем, -
вы недвусмысленно хотите, чтобы
(поэт,
писатель рассказчик
и бытописатель)
отверг идею продвигаться с носом,
чтоб hie et nunc[9] (переведите, Лопес!)
застыл и паче чаянья не вышел
за семантические и к тому же
за синтаксические и, конечно,
за познавательные и притом
параметрические рамки смысла,
понятного обычным людям. Хм.
Иначе говоря,- чтоб воздержался
от поиска того, что за пределом
отысканного, или чтоб искал,
подыскивая тут же объясненье
искомому, чтоб сысканное стало
подробно завершенным изысканьем.
На это предложенье
отвечу я, друзья:
как можно – быть в движенье,
все время тормозя? (А вышло лихо!)
Научные законы отвергают
возможность столь двояких побуждений,
скажу еще прямее: нет пределов
воображению, как нет пределов
глаголу! Закадычные враги -
язык и выдумка! От их борьбы
рождается на свет литература,
диалектическая встреча Музы
с Писцом, неизреченного – со словом.
Не хочет слово быть произнесенным,
пока ему мы шею не свернем,
так Муза примиряется с Писцом
в редчайший миг, который мы зовем
Вальехо или, скажем, Маяковский.
– Допустим, – говорит кто-то, – но перед лицом исторической конъюнктуры каждый писатель и художник, если только он не законченный башнеслоновокостист, должен, более того – обязан канализировать свою направленность в сторону наибольшего удобопоиимания,- аплодисменты.
– Я и раньше догадывался, – скромненько замечает Лукас, – что подобных писателей подавляющее большинство, именно поэтому меня и удивляет столь упорное стремление довести большинство подавляющее до абсолютного! Что вы рас-так-так всего боитесь?! Ведь только обиженных и подозрительных может раздражать опыт, прямо скажем, передовой и посему трудный (трудный в первую голову для самого писателя и лишь во вторую голову для читающей публики, и это я подчеркиваю особо), – разве не очевидно, что только немногие могут развить подобный опыт? Не свидетельствует ли это, понимаете ли, что некоторые слои считают то, что не сразу ясно, преступно темным? Не кроется ли здесь тайное, а подчас и низменное побуждение уравнять шкалу ценностей, чтобы кое-кто мог хоть как-то удержаться на плаву?
– Есть только один ответ, – говорит кто-то, – вот он: ясность трудно достижима, в силу чего темное становится стратегией, чтобы под видом трудного протащить легкое, – запоздалые овации.
– Мы можем спорить с вами много лет, – хрипит Лукас, –
но камнем преткновенья будет снова
и снова сложная проблема слова.
(Кивки.) Никто не вступит – лишь Поэт
и то порой – на белую арену
бумаги, над которой вьется дым
неведомых законов, да, законов
капризного соитья смысла с ритмом,
когда внезапно посреди рассказа
или строфы всплывает Атлантида.
От этого защиты нет, поскольку
об этом знанье нет у нас познаний,
фатальность эта позволяет нам
плыть под водой действительности и,
взнуздав какое-либо междометье,
нащупать ритм, открыть сто островов,-
пираты ремингтонов (или перьев),
вперед на штурм глаголов и наречий,
пусть по лицу крылом нас подлежаще
бьет существительное-альбатрос!
Или, говоря проще, – заключает Лукас, сытый по горло, как и его товарищи, – предлагаю, ну, скажем, пакт.
– Никаких сделок! – ревет без которого в этих случаях не обходится.
– Простой пакт. Для вас primum vivere, duende filosofiare[10] подсознательно ассоциируется с vivere[11] в прошедшем времени в чем нет ничего плохого и что, пожалуй, дает единственную возможность взрыхлить почву для философствования, творчества и поэтизирования во времени будущем. И я надеюсь упразднить удручающее нас разногласие пактом, смысл которого в том, что вы и мы одновременно откажемся от наших наиболее впечатляющих достижений, дабы общение с ближним достигло своего максимального объема. Мы откажемся словотворчества на самом сверхзвуковом и разреженном уровне, а вы – от науки и технологии в их соответственно сверх звуковых и разреженных формах, то есть от компьютеров и реактивных самолетов. Если вы препятствуете нашему поэтическому наступлению – с какой стати вы должны так пузато лакомиться научным прогрессом?!
– А вот это уж дудки,- говорит который в очках.
– Естественно, – язвит Лукас,- смешно было бы ждать иного ответа. А уступить все-таки придется. Итак, мы будем писать проще (как бы, потому что это не так просто), а вы упраздните телевидение (впрочем, знаю я вас). Мы двинемся в направлении прямой коммуникабельности, а вы откажетесь от автомобилей и тракторов – картошку вы и лопатой можете сажать. Представляете, что будет означать это двойное возвращение к простоте, к тому, что будет понятно сразу всем, к единению с природой без посредников?!
– Предлагаю предварительно-немедленную дефенестрацию[12] единодушия,- говорит которого перекосило усмешкой.
– А я голосую против, – говорит Лукас, вертя бокал с пивом, которое всегда в подобных случаях поспевает вовремя.
Лукас – его наблюдения над потребительским обществом
Так как у прогресса ни-конца-ни-краю, в Испании стали продавать пакеты с тридцатью двумя спичечными коробками, на каждом из которых воспроизведено по фигуре из полного шахматного комплекта.
Тут же один смекалистый сеньор выбросил в продажу набор шахмат, каждая из тридцати двух фигур которого может служить кофейной чашечкой. Почти одновременно Базар Два Света выпустил в продажу кофейные чашки, которые предоставляют относительно мягкотелым дамам большой выбор достаточно твердых бюстгальтеров, после чего Ив Ст. Лоран незамедлительно скумекал лифчик, позволяющий подавать два яйца всмятку этаким довольно возбуждающим воображение способом.
Жаль, что до сих пор никто не нашел дополнительного применения яйцам всмятку, – это и обескураживает тех, кто кушает их, испуская тяжелые вздохи, – так рвется цепь радостных превращений, которая остается простой цепочкой, к слову сказать, довольно-таки дорогой.
Лукас – его долгие путешествия
Всему миру известно, что Земля отдалена от других систем тем или иным количеством световых лет. Но лишь немногие знают (в сущности, только я), что Маргариту отделяет от меня внушительное количество лет улитковых.
Сперва я думал, что имею дело с черепаховыми годами, но должен был отказаться от этой единицы измерения как от слишком оптимистической. При всей черепашьей медлительности я бы так или иначе добрался до Маргариты – совсем иное дело Ева, моя особо любимая улитка, не оставляющая мне в этом смысле ни малейшей надежды. Не помню уже, когда она начала свой путь, так незначительно отдаливший ее от моего левого башмака, после того как я с исключительным тщанием сориентировал ее по курсу, который мог привести ее к моей Маргарите. Окруженная свежим салатом-латуком, заботой и вниманием, она довольно обнадеживающе двинулась в дорогу, внушив мне надежду, что прежде, чем сосна вырастет выше крыши, серебристые рожки Евы попадут в поле Маргаритиного зрения, ублажив ее этим милым знаком моего внимания, а я бы в это время радовался на расстоянии, представляя ее радость, волнение ее кос и рук при виде приближающейся улитки.