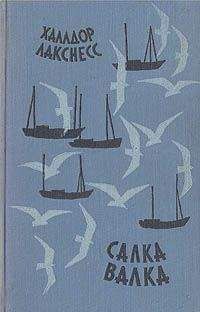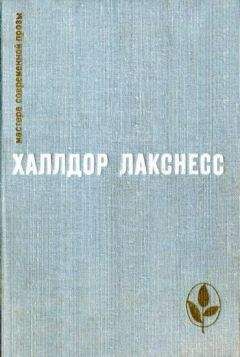Стейнтор препроводил в рот кусок прессованного табака, которым он завершил вечернюю трапезу, и презрительно посмотрел на слугу господнего.
— Да нам, собственно, не о чем говорить, — ответил он. — Ты крестил меня, конфирмовал, но пока что это мало принесло мне пользы. Теперь тебе до меня но добраться, пока я не протяну ноги.
Сигурлина молча поднялась. Ее, видимо, не удивил этот разговор. Она открыла дверь, ведущую в спальню. Стейнтор угрюмо поднялся и последовал туда за пастором. Сигурлина закрыла за ними дверь.
Вскоре мужчины вернулись. Пастор тут же попрощался и ушел. Стейнтор был угрюм. Он молча стоял и ждал, пока за пастором закроется дверь. Сигурлина, как бы ища защиты, уселась за прялку и принялась сучить грубую серую шерсть. На щеках у нее пылали красные пятна. Она не отваживалась поднять глаза. Наконец Стейнтор оглянулся осторожно, как человек, находящийся в клетке со львом, и злобно посмотрел на Сигурлину.
— Так это ты натравила на меня это чучело? Похоже на вас, женщин.
Сигурлина не проронила ни звука. Нитка трепетала между ее опухшими, дрожащими пальцами. Стейнтор приблизился к ней и с нарастающим гневом в голосе сказал:
— Разве это не мой берег?
Женщина молчала.
— Разве я не объехал весь мир, когда мне этого хотелось?
Молчание.
— Отвечай мне, да или нет? Объехал я весь свет или не объехал?
— Да, — произнесла женщина дрожащим голосом.
— Отвечай: да или нет? Я человек, который принадлежит сам себе и ни от кого не зависит. Объехал ли я весь свет от южного океана до западного побережья или я отсыпался здесь, в Осейри у Аксларфьорда? Отвечай мне, да или нет?
На этот раз женщина только вздохнула.
— А раз я таков, каков я есть, то для меня не существует никаких законов. Я сам устанавливаю себе законы. Я сам себе спаситель, я сам свое спасение. Пытаться поймать меня в сети евангельской болтовней — это все равно что пытаться заковать в цепи морские волны, понятно тебе это?
И Стейнтор, размахивая кулаками перед лицом женщины, испустил рев, эхом отозвавшийся во всем доме. Женщина выронила из рук веретено, нитка оборвалась, и она в ужасе прижала руки к груди. Стейнтор бросился к двери. Старая Стейнун схватила его за руку, пытаясь утихомирить. Но Сигурлина уже пришла в себя, она поднялась со стула и обратилась к Стейнтору.
— Я знаю, что вчера вечером на выгоне ты заставлял моего ребенка принять от тебя деньги.
Как ни странно, но это обстоятельство волновало ее больше всего. Она продолжала:
— С другой стороны, соблазняя мою Сальвор, моего единственного ребенка, которому я обязана жизнью, ты обманывал меня. Готов ли ты держать ответ перед нами обеими за все, что ты сделал?
— Да! — прокричал в ярости Стейнтор. — Да! — и, шагнув вперед, топнул ногой.
— Вот как? Что ж, хорошо. Я спрашивала пастора, что бывает человеку, если он соблазняет подарками подростков в возрасте Салки. Тебя ждет ни больше ни меньше как тюрьма. Теперь я тебя раскусила. Ты целую зиму преследовал девочку, всеми способами старался соблазнить ее. Не думай, не такая уж я глупая, как тебе кажется. Но я пошла к пастору не поэтому, истинная причина тебе известна. Лучше я скажу об этом сейчас, пусть все знают — и старики, и Сальвор. К тому же этого долго не утаишь, скоро об этом заговорят все в поселке. Так слушайте; у меня будет от него ребенок, я уже на четвертом месяце.
— Ребенок, от меня? Чем ты это докажешь? Ты перед всем честным народом недавно говорила, что путалась с каким-то типом там, на Севере, как раз перед приездом сюда.
— Время и бог докажут, кто отец ребенка.
— Глупые вы мои, как же могло быть иначе? — вмешалась старая Стейнун. — Разве я не предупреждала вас зимой, когда вам непременно хотелось спать в одной комнате. Я же вам говорила, глупцы. А теперь прекратите наконец свою игру в прятки и соединитесь по христианскому обычаю. Вы такая хорошая пара!
Уговоры старой Стейнун были напрасны. Стейнтор пригрозил напиться до смерти и с бранью и руганью покинул дом, громко хлопнув дверью.
— Тьфу ты, да разве бедняки когда-нибудь ведут себя, как люди? — проворчал старый Эйольфур и, встав из-за кухонного стола, поплелся в свою комнату.
Позже вечером, после того как подоили корову и старики улеглись спать, Сигурлина, подавленная и угнетенная как никогда раньше, позвала дочь и, не подымая глаз, заговорила с ней:
— Сальвор, ты не могла бы сегодня лечь со мной?
— Зачем? — спросила Салка Валка.
— Он может вернуться злой, я боюсь остаться одна. Я молю господа, чтобы ничего не случилось, но все же я не хотела бы оставаться одна.
— Что-то ты не просила меня спать вместе, когда грозилась выпороть меня, — сказала девочка.
Женщина посмотрела на свою дочь. Она ничего не ответила, слезы катились у нее из глаз, ей было так тяжело!
Они разделись и легли, не глядя друг на друга и не разговаривая. И вышло так, что мать не попросила дочь присоединиться к ее молитве, как делала это прежде, даже тогда, когда ее вера была слабее, чем сейчас. Может быть, она ждала, что девочка сама опустится на колени. Но Салка утратила страх перед богом — наверное, потому, что она ела слишком много рыбы, только что выловленной из моря. Она испытывала теперь страх разве только в тех случаях, когда ей приходилось слушать крикливые причитания Тоды-Колоды. Лежа в постели, она смотрела, как мать снимает с себя одежду. Затем эта забитая женщина в заплатанном белье опустилась на колени в полной уверенности, что стоит перед самим распятым Христом; она принялась читать новые и старые псалмы, духовные песни, красивые молитвы и закончила длинным обращением к господу богу от своего собственного, имени, в котором Иисус Христос, Стейнтор Стейнссон и святой дух смешивались самым противоестественным образом. Затем мать легла в постель и натянула на себя перину, дрожа от холода, но спокойная и умиротворенная, так как бог во время молитвы влил в ее душу бальзам и придал ей силы. С именем Христа она пожелала Салке Валке спокойной ночи и убавила свет, оставив совсем маленький огонек, какой оставляет дева, ожидая своего возлюбленного. Вскоре девочка уснула. Ночь опустила свою ласковую руку на сердца всех рабов божьих в этом поселке.
Но крохотный огонечек продолжал светиться в романтической ночной тишине. Словно некий аккомпанемент сонному дыханию и биению пульса, он наполнял комнату чадом и оставлял полоску копоти на стекле. О чем может думать такой крохотный и незначительный огонек в этом поселке? Быть может, Иисусу следовало бы выкрутить фитиль чуточку больше, так как слишком малое или слишком большое пламя вызывает чад. Все стихло, кроме блаженного ночного храпа. И вдруг после долгой паузы ночную тишину прорезали громкие крики. Их отзвуки пронеслись над фьордами, перекликаясь друг с другом, как перекликается испуганное стадо. Но это была всего-навсего пришедшая откуда-то баржа, груженная товарами для Йохана Богесена. Женщина увидела рассвет среди зимних сугробов. Прежде чем уснуть, она погасила лампу.
Но в сером рассвете, который гонит прочь приятные сновидения, послышался скрип двери на кухне, затем широко распахнулась дверь спальни. Это явился Стейнтор. Он позвал Сигурлину и потребовал, чтобы она накормила его.
— Дорогой Стейнтор, — умоляла женщина, поднимаясь с постели, теплая от сна.
Но он не стал слушать ее ласковых слов, бесцеремонно стянул ее, полуголую, с постели и толкнул к кухонной двери.
— Понятно?
От шума проснулась девочка.
— Ты бьешь мою маму! Подлец!
Как только Стейнтор осознал присутствие девочки, пьяное безумие на его лице сменилось удивлением, а затем похотью; ни слова не говоря, он бросился на кровать прямо поверх одеяла, как был, в грязных сапогах. Девочка пыталась вырваться и убежать, но Стейнтор крепко держал ее.
Сигурлина, натянув юбку, помчалась в кухню в поисках еды. Девочка вылила на Стейнтора такой поток оскорбительных слов и ругательств, что он принял свое поражение. Вскоре Сигурлина вернулась из кухни. Она принесла миску с кашей и молоком. Стейнтор приказал вытащить у него изо рта кусок табака и кормить его. Она покорно послушалась — опустилась на колени у кровати на том самом месте, где недавно возносила молитву Иисусу Христу. Стейнтор ворчал, ругался, ложка не попадала ему в рот, так как он был не в состоянии повернуть головы.
— Ты что, ослепла? — заорал он. — Не видишь, где у меня рот?
Потом он вообще отказался есть.
— Ну и дьявол, до чего же ты страшна, — сказал он.
Сигурлина поднялась, словно ее ударили по лицу, и, сдерживая рыдания, тик стиснула губы, что они побелели.
— И все же я ношу твоего ребенка, — сказала она. Но стоило ей произнести эти слова, как она потеряла власть над собой и громко разрыдалась.