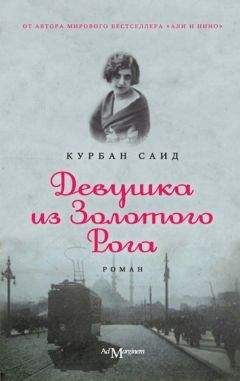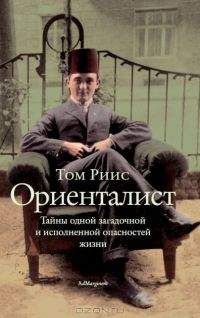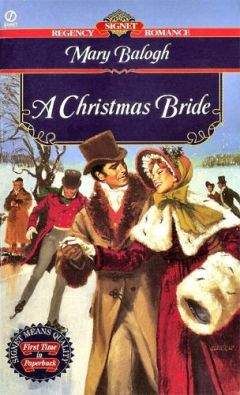Азиадэ посмотрела вдаль, на темные очертания виноградников. Издалека доносилось пение, и она уловила начальные слова песни:
«Я приехал из Гринцига и привез с собой домой крошечную обезьянку».
Слова были такими же загадочными и непонятными, как и все в этом городе. Где-то должно быть скрывается истинное лицо этого мира. Где — то должны прыгать по веткам гринцигские обезьяны, укрощенные и ласковые, чтобы их можно было привезти домой. Она осмотрелась. Никаких обезьян не было. Глубокая грусть переполняла Азиадэ. Ее преследовал запах вина и жирного мяса, охваченная слабостью, она склонила голову на сиденье.
Такой ее и нашел через полчаса обеспокоенный Хаса. Она протянула ему руки и сонно прошептала:
— Хаса, я заблудилась и испугалась обезьян. Защити меня, Хаса.
— Ешь икру, Джон.
Яркий свет. Блюда, разложенные на буфете в центре зала, переливаются всеми цветами радуги. Серые зернышки икры мягкие и нежные, полные девственной готовности отдаться покорителю. Красные омары, словно задумчивые мудрецы. Высятся крепости из паштетов. Устрицы плавающие во льду, и источающие ароматы океана.
Джон Ролланд послушно берет икру и выжимает на нее лимон. Он ест, чувствуя, как усиливается гул в ушах.
— Скорость ветра — девять, — сообщает Хептоманидес, с наслаждением уплетая паштет. — А все-таки странно, что большие корабли качает так же, как и маленькие.
Ничего не ответив, Джон Ролланд поднимается, отодвигает тарелку и направляется к выходу.
— Собака, — говорит он на незнакомом, но хорошо понятном греку языке. Хептоманидес улыбается и тянется к икре.
Ролланд стоит на прогулочной палубе. Вокруг только серый океан и бушующий горизонт. Подстегиваемые ветром волны разбиваются о борт и похожи на облака, падающие с неба в воду.
Джон Ролланд ложится в шезлонг.
— Кофе, виски, коньяк? — спрашивает стюард, укрывая ему ноги пледом.
— Собака, — повторяет Ролланд и стюард понимающе кивает в ответ, ведь скорость ветра — девять.
Во рту Джон Ролланд ощущает кисловатый привкус, и ему кажется, что он падает в бездну. Сделав над собой усилие, он прикуривает сигарету, чтобы тут же отшвырнуть ее. Еще одно движение и могло бы случиться что-то ужасное, непоправимое. Джон Ролланд с раздражением смотрит на пачку сигарет и думает о том, что во всем виновата эта коричневая упаковка с глупым верблюдом на фоне пустыни. Он мог бы сейчас спокойно сидеть в баре отеля, как и шесть дней назад, ощущая под ногами твердую почву.
Шесть дней назад он вскрыл пачку сигарет, и взгляд его в очередной раз упал на глупо улыбающегося верблюда. Но вдруг верблюжья морда на его на глазах стала увеличиваться, под ногами песок завихрился, послышался грохот барабанов и сухой песок ударил в лицо. Ролланд увидел мягкие, дрожащие копыта этих обитателей пустыни, ощутил их крепкий пыльный мех и с внезапно охватившим его волнением стал поглаживать плотную бумагу пачки.
— Перикл, — сказал он тогда, — выбери какую-нибудь пустыню с верблюдами и мечетями. Я еду в путешествие, а ты будешь меня сопровождать.
Потом он заснул, а на следующий день Сэм Дут уже стоял перед ним с двумя билетами в Касабланку, и его мудрые греческие глаза улыбались.
Джон Ролланд шевелит ногами под пледом и видит, как его агент, покуривая сигару, довольный выходит на палубу.
— И как ты только можешь радоваться жизни? — злобно ворчит Джон. — В то время как ежедневно тысячам людей на земле приходится переносить невиданные страдания. Для тебя мировая скорбь — пустой звук.
Сэм Дут кивнув, присаживается рядом с Ролландом и заказывает себе чашечку мокка.
— «Китайская стена» уже четвертую неделю идет на Бродвее, — говорит он. — У меня есть все причины быть довольным.
— Я ее написал, — еле слышно шепчет Ролланд. — И я умираю от боли, когда думаю о судьбах будущих матерей в Индии.
— Ты постоянно думаешь об этом, когда скорость ветра достигает девяти, — отвечает Сэм Дут, попивая свой кофе. — А я уже в девятый раз переплываю океан.
Ролланд чувствует себя отвратительно. Ему хочется подняться и сказать агенту, что все греки — земноводные, что Одиссей был пиратом, не говоря уже о грабителях-аргонавтах. Сказать, что его, Джона, предки всегда были привязаны к земле, что они покорили три континента, но всегда выступали за свободу мореходства, что это бесчеловечно в ореховой скорлупе весом в 40 000 тонн переплывать через океан, и что он никогда больше не будет называть его Сэмом Дутом, а только Периклом Хептоманидесом.
Вместо этого он садится в кресле, бросает на агента испепеляющий взгляд, и, улыбаясь, говорит:
— Сэм, дорогой мой, я хочу лечь. Мое завещание хранится у портье в отеле «Барбизон-Плаза».
Он, качаясь, идет по палубе, крепко держась за перила, и открывает дверь своей каюты.
Он лежит раздетый, с закрытыми глазами в своей постели, его тело тонет в пропасти и чья-то невидимая рука вытаскивает его опять. Он кладет руки поверх одеяла и думает о тех временах, когда ему было шесть лет, и султан Абдул Гамид качал его на коленях. Абдул Гамид был жестоким человеком. У него были впалые губы, маленькие хитрые глазки, нос крючком, и весь мир боялся его. А Джон сидел на его коленях. Кровавый султан трепал его по щекам, и заставлял мальчика прочитать наизусть персидский стишок, из которого тот знал только одну строчку:
«Тазе битазе, ун бину» — «Все свежее и свежее, все новее и новее».
«Я уже не свеж и не нов», — думает Ролланд, закрывая глаза. Так проходят минуты, кровавый султан свергается и османский меч передается новому султану. Джон Ролланд живет во дворце, окруженный евнухами и женщинами. Иногда он надевает свой красно-голубой мундир и пожимает руки вельможам. Вот, он на большом ковре читает книги, пишет стихи и стройная невольница прислуживает ему и открывает таинства любви.
Потом он проваливается в пропасть, где Сэм Дут, с пошлой улыбкой, протягивает ему апельсиновый сок. Снова потекли минуты, в которые встающее на Востоке солнце тонуло в мутном зареве Запада. Ветер усиливается до десяти. Сэм Дут в каюте Ролланда напевает греческую песенку о докере Джорджаки, который соблазнил богатую вдову и с ее деньгами убежал в Салоники.
Джон Ролланд приподнимается в постели и выражает сочувствие судьбе всех несчастных вдов Индии и будущих матерей Америки. После чего его охватило желание здесь, сию же минуту написать сценарий научно-популярного фильма о верблюдах и подать иск на известную табачную компанию за жестокое обращение с животными.
Но сила ветра уже поднялась до одиннадцати. Сэм Дут, смущенно улыбаясь, исчезает в своей каюте, а Джон Ролланд вспоминает о своей комнате в Нью-Йорке и мировая скорбь вновь переполняет его. Он слушает, как бушует океан, и старается думать о тихих водах Босфора, но это ему не удается.
Слабый солнечный свет озаряет каюту. Джон закрывает глаза, снова открывает их и удивляется тому, что этот светящий диск в небе — все еще луна, хотя ему казалось, что уже солнце. Он засыпает, думая о том, что мог бы написать сценарий под названием «Твердая почва под ногами».
Потом он внезапно просыпается. Корабль не движется, словно солдат на посту. Джон подходит к иллюминатору и видит зеленовато-серую полоску земли, город с белыми квадратными домами, минаретами, куполами мечетей и смуглое лицо на берегу, с глазами, тоскливо смотрящими в сторону его каюты.
— Африка, — возвещает Сэм Дут, входя в каюту. — Мы сходим в Рабате. Я заказал номер в «Сплендид-Палас». Позже можно съездить в оазис, забыл, как он называется, но отель там называется «Медитерания». С водопроводом, конечно.
Пока Джон Ролланд бреется, в зеркале отражаются фантастические морды важно шествующих мимо верблюдов. Он берет сумку и спешит на палубу. Ветер бьет в лицо, и он видит ветви высоких пальм.
— Вперед, в Африку, — говорит он, взяв агента за руку.
Он спускается по трапу и, глубоко вдохнув воздух, вступает на землю Касабланки.
Триста узких, крутых ступенек, тесный вход, и мужчина с обветренным лицом и всклокоченной бородой дотрагивается до камней башни Гасана. У их ног лежит Рабат. Джон Ролланд смотрит на четырехугольные белые дома, а гид с обветренным лицом говорит:
— Этот город, как белая девушка на груди черного раба.
Джон Ролланд молчит. Он смотрит на белый город, на океан и серую линию песка на горизонте.
— Эту башню, — продолжает араб, печально всматриваясь вдаль, — построил Гасан, тот самый, что построил Гиральду в Севилье.
Он замолкает. Складки его одежды хранят песок. Джон Ролланд вглядывается в его старое огрубевшее лицо, потом снова переводит взгляд на песок и холодные камни башни.
— На этом месте, — говорит араб. — Хасан должен был, по поручению халифа, построить вторую Альгамбру. Однако он успел построить только башню. Дни и ночи проводил он на этой плоской крыше. Но когда халиф однажды ночью решил прервать мудрые размышления мастера и поднялся по этим тремстам ступенькам, то застал мудрого Хасана в объятиях своей жены. Так мечеть и дворец остались недостроенными.