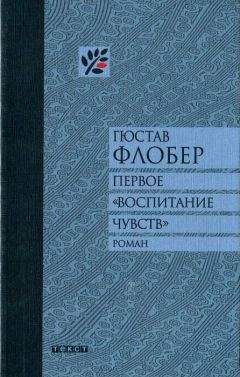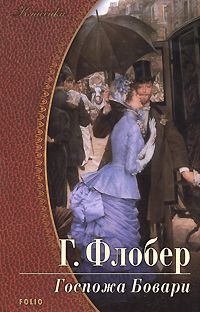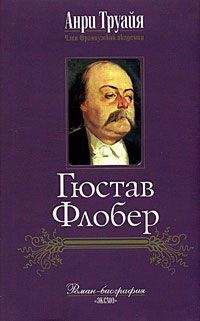А случаю еще было угодно, чтобы Мендес и Альварес сели в один с ним экипаж, расставшись с мадам Дюбуа и мадемуазель Аглаей, пожелавшими уехать домой как можно быстрее, а мадам Эмилия отправилась их проводить в другом фиакре, сопровождаемая Тернандом и тем хлыщеватым юнцом, что неотступно держался поблизости от нее. Достойные чада Лузитании,[39] эти двое изливали друг другу в уши сокровенное содержимое собственных сердец и, сбиваясь на скороговорку, потирая руки, вздыхали, жестикулировали, почти что пели, подъемля очи горе и растекаясь в улыбках.
— Она сказала мне: «Я, разумеется, долго буду помнить о вас», — бормотал Альварес.
— Она мне сказала: «Какие черные у вас волосы!» — заходился от восторга Мендес.
— Какая талия! — восклицал Альварес.
— Какая шея! — вторил ему Мендес.
— Уверен, она заметила, как я в нее влюблен.
— Ну и глуп же я, что еще сомневаюсь! Только вспомнить, как она обомлела в моих руках во время вальса.
— Как тебе кажется, Мендес, меня ждет удача?
— Разрази меня на месте, да! Как ты считаешь, у меня есть хоть какие-то шансы?
— Несомненно. А не написать ли ей? Что ты на это скажешь?
— Непременно. Вот и я подумываю о том же.
— Ты заметил, как прозвучало ее «спасибо», когда я придержал стремя, помогая ей взобраться на лошадь?
— А ты видел, как она поглядела на меня, когда я с ней здоровался?
— Она скоро вновь посетит мадам Рено.
— Да-да. Я спущусь в гостиную, меж нами завяжется разговор, вот тогда я и суну ей записку.
— Ну уж нет, клянусь! Я так сразу обниму ее за талию.
— Пожалуй, решено! Шепну ей на ушко: «Обожаю тебя!»
— Пусть уж лучше рассердится.
— Да, чихать я на это хотел!
— Пора поторопить события.
— Жребий брошен!
— Давно брошен! Дело яснее ясного: она меня поняла.
— И при первой же оказии…
— Но все же… Ты правда думаешь, что на моем месте нельзя давать слабину?
— Еще спрашиваешь! А на моем?
— Ну конечно же, и на твоем тоже… Кто может знать? Почему бы и нет?
— Виват!
— Виват!
Они елозили на подушках, так молотя кулаками по стеклам дверец, что чудом не попортили карету.
Выведенный из себя звуком их голосов, стуком и дребезжанием, Анри посреди дороги вышел из экипажа и прибежал к Морелю, чтобы было с кем перемолвиться словечком, кому поплакаться в жилетку; во что бы то ни стало ему сейчас требовался друг, наперсник, ибо сердце его переполняли долго сдерживаемые слезы. О, сейчас самомалейшее соболезнование пролилось бы бальзамом в его душу, ласковое слово наполнило бы счастьем!
Читатель без труда сообразит, что он расписал свои муки в совсем иных выражениях, нежели те, коими воспользовались мы, вдобавок преобильно уснастив свой рассказ проклятьями, изобличающими женскую неверность, тщету мужского самолюбия, дождь, лошадей, непрочные брючные защепки и попранные клятвы.
— Пора послать ее куда подальше, — постановил Морель.
— И я того же мнения!
— В том-то и закавыка. Вы уж хотя бы прочтите ей мораль.
— Какую мораль?
— Тем не менее, сдается мне, что…
— Да нет же!.. Что, по-вашему, я должен ей сказать?
— Устраивайтесь, как хотите, дело ваше.
— Вчера, — продолжил свои инвективы Анри, — вальсируя, она смеялась мне прямо в лицо и, казалось, твердила: «Нет, нет, никогда». Благоволила она ему, да и Тернанду тоже, и мужу — никого не обделила. Поверите ли? Она подходила ко мне и тотчас удалялась, играла моим сердцем, словно малые дети погремушкой: надоело — сломали, вот и сегодня она, вообразите, одна села в фиакр — с теми особами, с ним, со всеми, кроме меня… А те Богом обиженные счастливцы, которых я чуть не забыл, они все стенали и хохотали над моим ухом на своем дурацком наречии! О Боже мой, Боже мой!.. Я ее ненавижу, презираю, извергаю из сердца, я не люблю ее больше, она вольна предпочесть мне кого угодно, тем хуже, то есть тем лучше, я, напротив, только посмеюсь… О! Я в бешенстве… ну вот, теперь я плачу!
Он действительно плакал.
— Бедный мой Анри! — повторял все это время почти что опечаленный Морель.
— Да, бедный Анри! — горестно повторял за ним страдалец, проникнувшись жалостью к себе.
— Ну же, приободритесь! Не надо так расстраиваться.
— Разве я смогу когда-нибудь утешиться? — вновь гневно взрывался Анри.
— Да какого черта! Человек, живущий с женщиной целых два месяца, как вы, уже получил достаточно наслаждения, чтобы разбавить их щепоткой неудовольствия, особенно если оно проистекает из описанных вами причин. Что же в конечном счете произошло? Позвольте выражаться напрямую, провались оно все к чертям: разве она больше не хочет с вами спать? Ведь хочет?
— Ну да… — смущенно промямлил Анри.
— Так за чем же дело стало? К чему перепиливать нам мозги всеми этими причитаниями?
«Скотина! Тупица, лишенный сердца и чувства!» — подумал Анри.
«Этот молодой человечек начинает мне надоедать», — отметил про себя Морель.
— Давайте вместе пообедаем, — прибавил он вслух, — и изгоним вашу меланхолию толикой благодатного вина.
— Спасибо.
— Но это будет не сегодня. А пока выйдем, что ли, вместе? Я вообще-то тороплюсь, у меня поднакопилось работы, я ее малость запустил последние два дня, а мне еще писать тот отвратительный мемуар… Надо закончить анализ всех этих бумаженций к следующей среде. Собачья жизнь! Каторга! Вы вот — счастливец!
— Над чем корпите?
— Мемуар о тяжбе Национального общества гипсовых изделий против его парижского филиала.
— И только? — Анри хмыкнул, снисходительно дав понять, что сочувствует. — Дело-то пустяковое!
— Пустяковое, пустяковое, куда уж пустяковее, милый мой несмышленыш: пустяковое дело — банкротство при восьми миллионах убытка!
— Ах, это меня мало интересует!
— Охотно допускаю, но вот меня оно занимает, и весьма… Бог ты мой!.. Как саднит колено! Из-за него буду хромать, словно инвалид; я, верно, повредил себе лодыжку — слишком много прыгал этой ночью; да и горло не дает покоя, видно, натрудил сверх всякой меры, вопя за ужином.
Анри явился к Морелю, чтобы поделиться своим горем, а поскольку наболело, почел долгом распространяться о сем предмете длинно, полагая, что новые слова придут сами собой, чтобы выразить еще не утихнувшую боль, но красноречие его скоро иссякло, и он застыл в полнейшем недоумении, сколь мало имеет сказать. А потому — охотно заторопился к выходу.
— Прощайте, Морель.
— Прощайте, Анри, и мужайтесь! В следующий раз глядите на все повеселее.
«Черт тебя побери! — негодовал юноша, захлопывая за собой дверь. — Открывай после этого людям сердце, обнажай свои раны — они с ужасом отвернутся от тебя или посмеются над твоей слабостью. Ведь они сами не страдают, их занимает что-то другое. Ах, сюда бы Жюля… бедняга Жюль! Уж он-то добр, не чета Морелю… Морель, Боже, какой неотзывчивый ум! Какое отсутствие сердечной широты! Как он надоел своими россказнями о девочках и маскараде! А сколько шума из-за какого-то ушиба! И с каким изначальным почтением он разглагольствует о том дурацком мемуаре, что намерен составить!»
«Как забавны эти резвунчики с их сантиментами! — спускаясь по лестнице и держась за перила, поскольку опасался упасть, думал Морель. — Вот очередной представитель этой породы, хотя с меня уже и прежних довольно. Ну да, сперва она вальсировала с другим, потом Альварес с Мендесом сели в тот же фиакр, что и он, к тому же нынче утром, пока я спал, моросило, а у него черно на душе. Все так, но мне-то какая печаль?»
Вернувшись к себе, Анри написал Жюлю длинное пылкое письмо, где шла речь об одиночестве и о тщете обманутого чувства. Что остается в жизни? К чему проходить до конца этот мучительный путь, когда ноги кровоточат на каждом шагу, ступая по устилающим дорогу камням? Ведь настоящее печально, будущее обещает быть и того хуже, хочется умереть, и с тем он, кончая послание, шлет другу прощальный поцелуй.
Крупные слезы капали прямо на бумагу и расплывались пятнами.
Морель тоже не сидел без дела: второпях отобедав, он строчил мемуар об иске Национального общества гипсовых изделий к собственному парижскому филиалу, но колено не переставало его изводить, перья оказались одно другого хуже, и все это порядком таки ему досаждало.
XV
Жюль был счастлив не более своего друга: Бернарди все еще болел, театр уже две недели как не работал, и труппа мало-помалу рассыпалась; герой-любовник отправился даже играть в соседний департамент, прихватив часть декораций и костюмов, — все это задерживало премьеру «Рыцаря Калатравы» (Жюль так и не смог прочитать актерам пятый акт, тот самый знаменитый пятый акт, который призван был принести ему толикую славу!). Можно было подумать, что Бернарди поклялся его не выслушать: один раз у него болела голова, на другой день он проверял счета, еще на следующий дел было невпроворот, потом ему пришла пора принять слабительное. И каждый раз по пути в контору Жюль наносил ему краткий визит, чтобы справиться о здоровье, как говорил, но на самом деле стараясь словно бы невзначай завести разговор о вышеозначенном чтении, причем его неизменно ждало разочарование: директор, казалось, оглох и в ответ принимался болтать о других предметах. А если б он только захотел, как бы дело завертелось! В кармане Жюля уже лежал наготове манускрипт, но авторское целомудрие запечатало ему уста, хотя он пускался во все тяжкие, только бы его намеки наконец достигли цели.