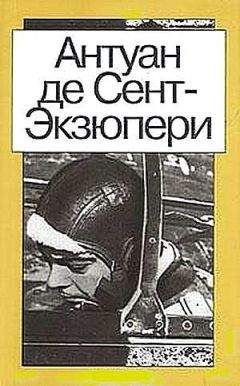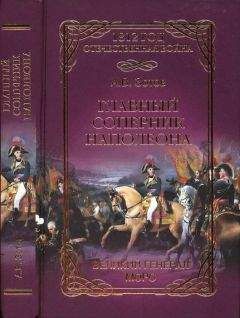А караван беженцев, который мы, быть может, уже видели, когда летели к Аррасу, продвинулся самое большее метров на пятьсот.
За то время, что они будут оттаскивать в кювет поломанный автомобиль, менять колесо или просто сидеть и барабанить пальцами по баранке в ожидании, пока перекресток освободят от разбитых машин, мы уже успеем вернуться на базу.
Мы перешагнули через все поражение. Мы похожи на паломников, которые легко переносят мучения в пустыне, потому что сердцем они уже в священном граде.
Наступающая ночь соберет эту беспорядочную толпу под свой горестный кров. Стадо сбивается в кучу. Кого им молить о помощи? А нам даровано счастье спешить к товарищам, и мне кажется, что мы торопимся на праздник. Так простая хижина, если огонек ее светит нам издалека, превращает самую суровую зимнюю ночь в веселый сочельник. Там, куда мы летим, нас ждет радушный прием. Там, куда мы летим, мы причастимся вечерней трапезы.
На сегодня довольно приключений: я счастлив и утомлен. Я оставлю на попечение механиков свой самолет, обогатившийся новыми пробоинами. Я сброшу с себя тяжелый летный комбинезон, и, так как сыграть с Пенико на рюмку коньяка будет уже слишком поздно, я просто сяду за ужин вместе с товарищами...
Мы опаздываем. Товарищи, которые опаздывают, обычно не возвращаются. Они задержались? Нет, уже слишком поздно. Что поделаешь! Ночь сталкивает их в вечность. За ужином группа подсчитывает свои потери.
В воспоминаниях не вернувшиеся становятся еще милее. Они всегда улыбаются самой светлой улыбкой. Мы откажемся от этого преимущества. Мы явимся без спроса, как злые демоны или браконьеры. Майор не успеет положить в рот кусок хлеба. Он посмотрит на нас. Возможно, он скажет: «А!.. Вот и вы...» Товарищи будут молчать. Они едва на нас взглянут.
Прежде я не питал особого почтения к взрослым. И напрасно. Человек никогда не стареет. Майор Алиас! В час возвращения и взрослые чисты, как дети: «А вот и ты, наш товарищ...» И целомудрие заставляет молчать.
Майор Алиас, майор Алиас... этим единением со всеми вами я наслаждался, как слепой наслаждается огнем. Слепой садится и протягивает руки, но он не знает, что доставляет ему такую радость. С боевого задания мы возвращаемся готовые к неведомой награде, которая есть не что иное, как любовь.
Мы не узнаем в ней любви. Любовь, которую мы обычно себе представляем, выражается более бурно. Но тут речь идет о настоящей любви: о сети связей, которые делают тебя человеком.
Я спросил моего фермера, сколько у меня в машине приборов. И фермер ответил:
– Я ничего не смыслю в вашем хозяйстве. А насчет приборов, надо думать, что каких-то у вас все-таки не хватает, тех, с которыми мы выиграли бы войну... Поужинаете с нами?
– Я уже ужинал.
Но меня насильно усадили между племянницей и хозяйкой.
– А ну-ка, племянница, подвинься чуточку... Дай место капитану.
Оказывается, я связан не только со своими товарищами. Через них я связан со всей сваей страной. Любовь, если уж она дала росток, пускает корни все глубже и глубже.
Фермер молча режет хлеб. Дневные заботы придали ему суровую, благородную важность. И, словно совершая священный обряд, он делит этот хлеб, быть может, в последний раз.
А я думаю об окрестных полях, которые взрастили зерно для этого хлеба. Завтра тут будет враг. Напрасно стали бы мы ждать лавины вооруженных людей! Земля велика. И нашествие, может быть, выразится здесь всего лишь в появлении одинокого часового, затерянного где-то в бескрайней дали – этого серого пятнышка на меже пшеничного поля. Внешне ничего не изменится, но для человека достаточно и одного значка, чтобы все стало иным.
Порыв ветра, бегущего по ниве, всегда напоминает порыв ветра на море. Но если нам кажется, что на ниве он оставляет более заметный след, то это потому, что, перебирая колосья, ветер словно ведет учет нашему достоянию. Словно убеждается в надежности будущего. Так ласкают жену, спокойно проводя рукой по ее волосам.
А завтра эта пшеница станет иной. Пшеница – это нечто большее, чем телесная пища. Питать человека не то, что откармливать скотину. Хлеб выполняет столько назначений! Хлеб стал для нас средством единения людей, потому что люди преломляют его за общей трапезой. Хлеб стал для нас символом величия труда, потому что добывается он в поте лица. Хлеб стал для нас непременным спутником сострадания, потому что его раздают в годину бедствий. Вкус разделенного хлеба не сравним ни с чем. И вот теперь вся сила духовной пищи, духовного хлеба, который будет рожден этим полем, находится под угрозой. Завтра мой фермер, преломляя хлеб, быть может, уже не будет служить той же домашней религии. Завтра, быть может, этот хлеб уже не затеплит тот же свет в глазах его близких. Ведь хлеб это то же, что масло в светильнике. Оно также претворяется в свет.
Я смотрю на племянницу – она очень красива – и думаю: хлеб, питая ее, становится грустным очарованием. Он становится целомудрием. Он становится сладостью молчания. И вот из-за одного только серого пятнышка на краю океана пшеницы этот самый хлеб, даже если он и будет завтра питать тот же светильник, быть может, уже не даст того же самого пламени. Главное в силе хлеба изменится.
Я сражался за то, чтобы спасти прежде всего этот особый свет, а потом уже пищу телесную. Я сражался ради того особенного сияния, которым становится хлеб в домах моей родины. В этой загадочной девочке более всего меня волнует одухотворенность ее облика. Какая-то неуловимая гармония черт ее лица. Поэма, запечатленная на странице, а не сама страница.
Она почувствовала, что за ней наблюдают. Она подняла на меня глаза. Кажется, она мне улыбнулась... Это было подобно дуновению на хрупкой глади вод. Ее улыбка трогает меня. Я ощущаю присутствие какой-то неповторимой души, таинственно пребывающей только здесь и нигде больше. Я наслаждаюсь покоем и думаю: «Вот он, покой царства безмолвия...»
Я видел сияющий свет пшеницы.
Лицо племянницы вновь стало подобно глубине, скрывающей тайну. Фермерша вздыхает, смотрит по сторонам и молчит. Фермер, поглощенный думами о грядущем дне, замыкается в своих мыслях. И за молчанием этих людей скрывается внутреннее богатство, подобно достоянию их деревни, – и над ним тоже нависла угроза.
И я с поразительной ясностью сознаю свою ответственность за эти незримые сокровища. Я выхожу из дома. Иду не спеша. Я уношу с собой это бремя, и оно не тягостно мне, а мило, словно на руках у меня спящий ребенок, прижавшийся к моей груди.
Я ждал этого разговора с моей деревней. И вот теперь мне нечего сказать. Я словно плод, тесно связанный с деревом, о котором я думал несколько часов назад, когда ко мне вернулось спокойствие. Я просто чувствую себя неотделимым от своих. Я неотделим от них, как они неотделимы от меня. Когда мой фермер раздавал хлеб, он ничего от себя не отрывал. Он делил и обменивал. Нас питала одна и та же пшеница. Фермер ничего не терял. Он становился богаче, ибо лучше стал его хлеб, превращенный в хлеб общей трапезы. Когда сегодня днем я ради этих людей вылетел на боевое задание, я тоже ничего им не отдал. Мы, летчики нашей группы, ничего им не отдаем. Мы – то, чем они жертвуют на войне. Я понимаю, почему Ошедэ воюет без громких слов, подобно тому как деревенский кузнец работает для своих односельчан. «Вы кто?» – «Я здешний кузнец». Кузнец трудится, и он счастлив.
И если я полон надежды, в то время как они, по-видимому, отчаялись, я все-таки ничем не отличаюсь от них. Я просто воплощаю их долю надежды. Конечно, мы уже побеждены. Все шатко. Все рушится. Но меня не покидает спокойствие победителя. В моих словах противоречие? Плевать мне на слова! Я такой же, как Пенико, Ошедэ, Алиас, Гавуаль. Мы не в состоянии объяснить, откуда взялось это ощущение победы. Но мы чувствуем свою ответственность. Невозможно, чувствуя ответственность, приходить в отчаяние.
Поражение... Победа... Я плохо разбираюсь в этих формулах. Есть победы, которые наполняют воодушевлением, есть и другие, которые принижают. Одни поражения несут гибель, другие – пробуждают к жизни. Жизнь проявляется не в состояниях, а в действиях. Единственная победа, которая не вызывает у меня сомнений, это победа, заложенная в силе зерна. Зерно, брошенное в чернозем, уже одержало победу. Но должно пройти время, чтобы наступил час его торжества в созревшей пшенице.
Сегодня утром мы видели только разбитую армию и беспорядочную толпу. Но беспорядочная толпа, если есть в ней хотя бы один человек, в чьем сознании она уже объединена, перестает быть беспорядочной толпой. Камни на стройке кажутся беспорядочной грудой лишь с виду, если где-то на стройке затерян хотя бы один человек, который представляет себе будущий собор. Я спокоен, если под разбросанным удобрением укрыто зерно. Зерно впитает его соки и произрастет.
Тот, кто возвысился до созерцания, становится зерном. Тот, кому открывается некая истина, тащит другого за рукав, чтобы посвятить в эту истину и его. Тот, кто сделал изобретение, спешит рассказать о нем людям. Я не знаю, как станет выражать себя человек, подобный Ошедэ, как он будет действовать. Но для меня это и неважно. Он передаст окружающим свою спокойную веру.