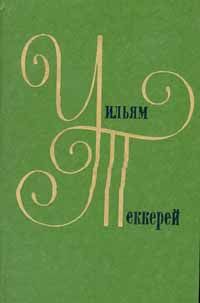Уэстоны, равно как и наш постоялец шевалье, часто отлучались из дому. В такие дни моей дорогой малютке позволяли нас навестить, или же она потихоньку выскальзывала из садовой калитки и бежала к няне Дюваль, — она всегда называла так мою матушку. Я сначала не понимал, что Уэстоны запрещают Атнесе ходить к нам в гости, и не знал, что в этом доме меня так страшно ненавидят.
Желая сохранить мир и покой в доме, а также остаться честным человеком, я был очень рад, что матушка не противилась моему решению оставить контрабанду, которой все еще занималось наше семейство. Всякому, кто осмеливался перечить матушке в ее собственном доме, смею вас уверить, приходилось весьма несладко, но при всем том она понимала, что, если она хочет сделать своего сына джентльменом, ей не следует отдавать его в ученье контрабандисту. Поэтому когда шевалье, к которому матушка обратилась за советом, пожал плечами и заявил что умывает руки, она сказала:
— Eh bien, М. de la Motte [99]. Мы уж как-нибудь обойдемся без вас и без вашего покровительства. Сдается мне, что оно не всегда шло людям на пользу.
— Да, — со вздохом отвечал шевалье, бросив на нее мрачный взгляд, быть может, моя дружба приносит людям вред, но вражда моя еще страшнее, entendez-vous? [100]
— Ладно, ладно, Денисоль и сам не робкого десятка, — отвечала упрямая старуха. — Что вы мне тут толкуете про вражду к невинному ребенку, господин шевалье?
Я уже рассказывал, как в день похорон графини де Саверн мосье де ла Мотт посылал меня за своей макрелью. Среди этих людей был отец одного из моих приятелей, моряк по имени Хукем. С ним случилось несчастье, — он надорвался и некоторое время не мог работать. Будучи человеком непредусмотрительным, Хукем задолжал арендную плату моему деду, который, как я имею основания опасаться, был далеко не самым человеколюбивым кредитором на свете. Когда я возвращался домой из Лондона, мой добрый покровитель сэр Питер Дени дал мне две гинеи, а миледи его супруга — еще одну. Если б я получил эти деньги в начале своего достославного визита в Лондон, я бы их, разумеется, истратил, но в нашем маленьком Уинчелси не было никаких соблазнов, если не считать охотничьего ружья в лавке ростовщика, о котором я давно уже мечтал. Однако мосье Трибуле просил за ружье четыре гинеи, у меня же было всего только три, а залезать в долги я не хотел. Ростовщик готов был продать ружье в кредит и несколько раз предлагал мне эту сделку, но я мужественно отказывался, хотя частенько слонялся возле его лавки, то и дело заходя полюбоваться великолепной вещью. Ружье было превосходной работы и приходилось мне как раз по плечу.
— Почему бы вам не взять это ружье, мистер Дюваль? Четвертую гинею вы сможете уплатить, когда вам будет угодно, — сказал мне однажды мосье Трибуле. — Многие господа к нему приценивались, но мне, право, было бы жаль, если б такая отличная штука уплыла из нашего города.
Когда я — наверняка уже в десятый раз — беседовал с Трибуле, в лавку явилась какая-то женщина, принесла телескоп, заложила его за пятнадцать шиллингов и ушла.
— Как, разве вы не знаете, кто это такая? — спросил Трибуле (он был отчаянным сплетником). — Это жена Джона Хукема. После беды, которая стряслась с Джоном, им приходится очень туго. У меня тут хранится еще кое-что из их добра и, entre nous [101], у Джона очень строгий хозяин, а срок аренды уже на носу.
Я отлично знал, что у Джона строгий хозяин, ибо это был не кто иной, как мой собственный дед. "Если я отнеси Хукему три золотых, он, быть может, наскребет остаток аренды", — подумал я. Он так и сделал, и три моих гинеи перешли из моего кармана в дедушкин, а охотничье ружье о котором я так мечтал, купил, наверное, кто-нибудь другой.
— Это вы дали мне деньги, мистер Дени? — прохрипел бедняга Хукем. Осунувшийся от болезни, он, сгорбившись сидел в своем кресле. — Не могу я их брать, нельзя мне их брать.
— Ничего, — возразил я. — Я хотел купить себе игрушку, но раз вас надо выручить, обойдусь и так.
Несчастное семейство принялось хором благословлять меня за доброе дело, и не скрою, что я ушел от Хукема весьма довольный собой и своим великодушием.
Не успел я выйти от Джона, как к нему явился мистер Джо Уэстон. Узнав о том, что я выручил бедняка, он разразился страшными проклятьями и, обозвав меня негодяем и наглым выскочкой, в ярости выбежал из дома. Матушка тоже прослышала об этом деле и с мрачным удовольствием выдрала меня за уши. Дед промолчал, но когда миссис Хукем принесла мои три гинеи, преспокойно положил их себе в карман. Я не особенно хвастался этой историей, но в маленьком городке не бывает тайн, и этим весьма заурядным добрым поступком я снискал себе большое уважение.
И вот теперь, как ни странно, сын Хукема подтвердил мне то, на что намекали доктору Барнарду священники из Слиндона.
— Поклянись, что ты никому не скажешь, Дени! — воскликнул Том с тем необычайным жаром, каким мы отличались в детстве. — Поклянись: "Разрази меня гром на этом месте!"
— Разрази меня гром на этом месте! — повторил я.
— Ну так вот: они — ты знаешь кто, эти джентльмены — они хотят тебе насолить.
— Чем же они могут насолить порядочному мальчик?
— О, ты еще не знаешь, что это за народ, — сказал Том. — Если они хотят кому-нибудь навредить, то ему несдобровать. Отец говорит: кто станет поперек дороги у мистера Джо, тот непременно плохо кончит. Где Джо Уилер из Рая, который поссорился с мистером Джо? В тюрьме. Мистер Барнс из Плейдена повздорил с ним на базаре в Гастингсе — полгода не прошло, как у Барнса сгорели стога. А как поймали Томаса Берри, который дезертировал с военного корабля? Страшный он человек, мистер Джо Уэстон, скажу я тебе. Не становись ему поперек дороги. Так отец говорит. Ты только не вздумай никому рассказывать, что он это говорил. И еще отец сказал, чтоб ты по ночам не ходил один в Рай. И не езди — сам знаешь куда — не езди ловить рыбу ни с кем, разве с теми, кого ты хорошо знаешь. — И Том ушел, приложив палец к губам. На лице его изображался ужас.
Что до рыбной ловли, то, хоть я и до смерти любил ходить под парусами, я твердо решился следовать совету доброго доктора Барнарда. Я больше не ездил ловить рыбу по ночам, как бывало в детстве. Однажды вечером, когда приказчик Раджа позвал меня с собой, а в ответ на отказ обозвал меня трусом, я доказал ему, что я не трус, — по крайней мере, в кулачном бою, — вступил с ним в схватку и непременно одержал бы победу, хоть он и был на четыре года старше, если б в самый разгар нашей борьбы ему на помощь не пришла его союзница мисс Сьюки Радж. Она сбила меня с ног раздувальными мехами, после чего оба принялись меня колошматить, а я, лежа на земле, мог только отбрыкиваться. К концу этого яростного сражения явился старшина Радж, и его беспутная дочь имела наглость заявить, будто ссора началась из-за того, что я к ней приставал — я, невинный младенец, который скорее стал бы строить куры какой-нибудь негритянке, чем этой мерзкой, конопатой, косоглазой, кривобокой, запьянцовской Сьюки Радж! Это я-то влюбился в мисс Косоглаз! Как бы не так! Я знал дома пару таких ясных, чистых и невинных глазок, что мне стыдно было бы в них посмотреть, если б я совершил такую подлую измену. Моя малютка в Уинчелси узнала о сражении, — она каждый день слышала обо мне всякие гадости от достопочтенных господ Уэстонов, но это обвинение возмутило ее до глубины души, и она сказала собравшимся в комнате джентльменам (о чем впоследствии рассказывала матушке):
— Дени Дюваль не злой. Он смелый и добрый. И то, что вы про него говорите, неправда. Это ложь!
И вот еще раз случилось так, что мой пистолетик мог мне поразить моих врагов и был для меня поистине gute Wehr und Waffe [102]. Я регулярно упражнялся в стрельбе из моей маленькой пушки. Я с величайшим тщанием разбирал ее, чистил и смазывал и хранил у себя в комнате в запертом на ключ ящике. Однажды я по счастливой случайности пригласил к себе своего школьного приятеля Тома Пэррота. Мы вошли в дом не через лавку, где мадмуазель Кукиш и мосье приказчик отпускали товар покупателям, а через другую дверь и, поднявшись по лестнице ко мне в комнату, отперли ящик, вынули драгоценный пистолет, осмотрели ствол, затвор, кремни и пороховницу, снова заперли ящик на ключ и отправились в школу, уговорившись после уроков пострелять в цель. Вернувшись домой обедать (в тот день уроки были только утром), я заметил, что все домашние — бакалейщик, его дочь и приказчик бросают на меня злобные взгляды, а мальчишка-посыльный, который чистил сапоги и подметал лавку, дерзко на меня уставился и сказал:
— Да, Дени, схлопочешь ты теперь по шее!
— В чем дело? — надменно осведомился я.
— Ах, милорд! Мы скоро покажем вашей светлости в чем дело. (Милордом меня прозвали в городе и в школе потому что с тех пор, как я побывал в Лондоне и обрядился в новый щегольской костюм, я, признаться, стал немножко задирать нос.) Так вот откуда взялись его кружевные манишки, вот откуда гинеи, которые он швыряет направо и налево. Знакомы ли вашей светлости эти шиллинги и эти полкроны? Взгляните на них, мистер Билз! Посмотрите на эти метки — я нацарапала их своей рукой, а уж потом положила в кассу, откуда милорд изволили их взять.