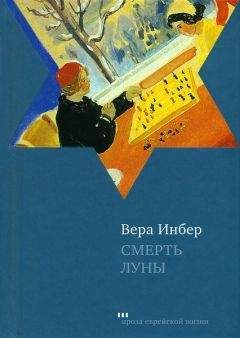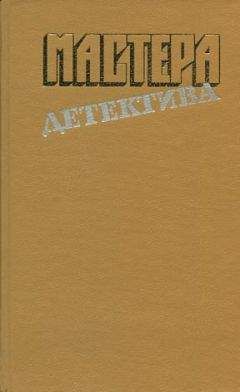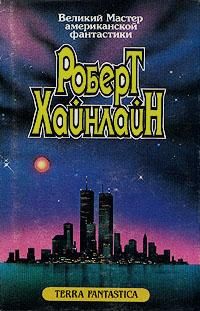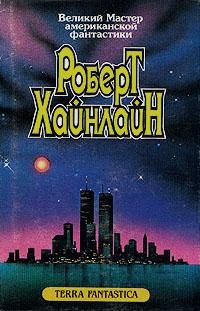Вера Михайловна Инбер родилась в Одессе в 1890 году. Ее мать, Ирма Шпенцер, преподавала русскую словесность и была директором еврейской школы для девочек, а отец, Моисей Шпенцер, возглавлял научное издательство «Матезис». В их семье жил двоюродный брат матери — Лейба Бронштейн, которого позже весь мир узнал как Льва Давидовича Троцкого. С ним Вера поддерживала — пока это было возможно — родственные связи, бывала у него в Кремле, посвятила ему несколько стихотворений («При свете ламп — в зеленом свете/Обычно на исходе дня/В шестиколонном кабинете/Вы принимаете меня./Затянут пол сукном червонным,/И, точно пушки на скале,/Четыре грозных телефона/Блестят на письменном столе…»).
После окончания гимназии Инбер училась на историко-филологическом факультете одесских Высших женских курсов. Свои первые стихи опубликовала в одесских газетах в 1910 году. Затем уехала лечиться в Швейцарию и Францию, где встретила своего первого мужа, журналиста Натана Инбера. У них родилась дочь, будущая писательница Жанна Гаузнер.
В двадцатые годы жила в Москве, печатала прозу и стихи, была участницей «Литературного центра конструктивистов», в который входили В. Луговской, И. Сельвинский, Э. Багрицкий, К. Зелинский, Е. Габрилович и др. Написанные в это время стихи многие помнят до сих пор. Скажем, «Ночь идет на мягких лапах,/Дышит как медведь./Мальчик создан, чтобы плакать,/Мама — чтобы петь…» или «Он юнга, его родина — Марсель,/Он обожает пьянку, шум и драки./Он курит трубку, пьет английский эль/И любит девушку из Нагасаки…». Инбер работала журналистом, ездила по стране и за рубеж, в качестве корреспондента жила в Париже, Брюсселе и Берлине. В 1920 году вышла замуж за А. Н. Фрумкина, будущего знаменитого академика.
В рассказах Веры Инбер, созданных в 20 — 30-х годах, завораживает живость и непосредственность, которую трудно найти в более поздних ее произведениях, когда она стала одним из столпов социалистического реализма. Именно такие, ранние ее рассказы и собраны в этой книге.
«Почти три года» — так назвала Вера Инбер свой блокадный дневник. Она осталась в Ленинграде и продолжала писать, выступала по радио, в госпиталях, выезжала на линию фронта. Третий ее муж, профессор медицины Илья Давыдович Страшун, работал в одной из клиник осажденного города. В блокадном Ленинграде умер ее внук. В 1946 году за поэму «Пулковский меридиан» Инбер получила Сталинскую премию.
Положение советского классика обязывало. Она — и не только она — поднимала руку, когда осуждали Б. Пастернака; публиковала статью против Л. Мартынова; писала стихи, прославляющие вождей и советский образ жизни.
«В каком же ежедневном ужасе жила бедная Вера Инбер, если для Всевидящего Глаза она была кругом виновата! — писал Евгений Евтушенко, знавший ее в те годы. — Вдобавок к своему родству с Троцким она, как выяснилось, печаталась в израильских изданиях, переводила с идиша, на котором говорила с детства, и успела в 20-е годы опубликовать прозу, за которую позже вполне могла попасть в обойму безродных космополитов: „Очерки о еврейских погромах“, „Печень Хаима Егудовича“, „Чеснок в чемодане“. Она чувствовала своих родных заложниками родственной дружбы с Троцким. Вот почему у нее были испуганные глаза… Страх, конечно, не оправдывает ее, — добавляет Евтушенко. — Но нельзя с высокомерной обвинительностью относиться к тем, кто сломался, ведь мы не испытали всего того, что испытали они».
Для «Черной книги», подготовленной И. Эренбургом, В. Гроссманом и Антифашистским еврейским комитетом в 1944–1946 годах, Инбер написала очерк «Одесса».
Ее дочь умерла в 1962 году. Вера Инбер прожила еще десять лет: писала стихи, о которых сегодня никто не вспоминает, издавалась, входила в состав официальных делегаций, в редколлегию журнала «Знамя», в правление Союза писателей СССР…
Борис Слуцкий вспоминал о Вере Инбер: «Она спрашивает меня: „Слуцкий, что вы такой мрачный? У вас все в порядке? — И, выслушав ответ, убежденно говорит: — У меня все в порядке. У меня всегда все в порядке“. И действительно, у нее все в порядке — как почти всю жизнь. Как у дерева, у которого ветки отсохли раньше, чем корни».
Qui, petite — да, крошка (фр.).
Dommage — жаль (фр.).