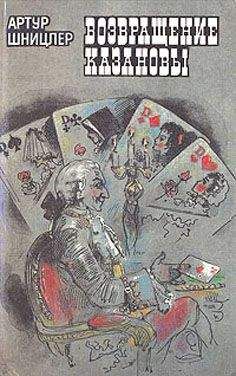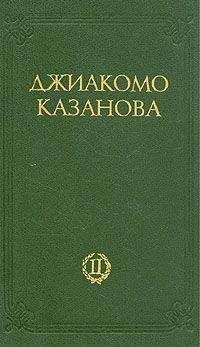На третье утро своего путешествия, из Местре, после двадцати лет тоски, Казанова впервые увидел колокольню: серое каменное строение, одиноко вырисовываясь во мгле, как бы поднялось перед ним из бесконечной дали. Но он знал, что теперь всего лишь два часа пути отделяют его от любимого города, где он когда-то был молод. Он расплатился с кучером, не помня, был ли то четвертый, или пятый, или шестой, с которым ему приходилось рассчитываться по выезде из Мантуи, и в сопровождении мальчика, тащившего его вещи, поспешил по убогим улицам в гавань, чтобы успеть на отправлявшееся к рынку судно, как и двадцать пять лет назад, отходившее в шесть часов утра в Венецию. Казалось, оно только его и ждало; едва он успел усесться на узкую скамейку между женщинами, которые везли в город свой товар, мелким торговым людом и ремесленниками, как оно отвалило; небо было пасмурное; над лагунами стоял туман; пахло затхлой водой, сырым деревом, рыбой и свежими плодами. Кампанила вздымалась все выше и выше, в воздухе вырисовывались и другие башни, виднелись церковные купола. Навстречу Казанове блеснул луч утреннего солнца, сначала с одной крыши, потом с другой, со многих; дома раздвигались, росли ввысь; из тумана выплывали большие и малые корабли, обменивались приветствиями; разговоры вокруг него стали громче; какая-то девочка предложила ему купить у нее виноград; он ел синие ягоды, выплевывая через борт кожицу, по примеру своих земляков, и вступил в разговор с каким-то человеком, который выразил радость по поводу того, что наконец, видимо, устанавливается хорошая погода. Как, здесь три дня шел дождь? Он этого не знал. Он приехал с юга — из Неаполя, из Рима... Судно плыло уже по каналам предместья, грязные дома глядели на Казанову своими мутными окнами, точно близорукими холодными глазами, два или три раза судно причаливало, на берег сходили какие-то молодые люди — один с большой папкой под мышкой, женщины с корзинами; теперь пошли более приветливые места. Не та ли это церковь, куда ходила к исповеди Мартина? И не тот ли это дом, где Казанова на свой манер постарался вернуть румянец и здоровье бледной, смертельно больной Агате? А вот в том он, кажется, отколотил до синяков плута, брата прелестной Сильвии? А там в боковом канале — маленький желтоватый домик, на его омываемых водой ступенях стоит босиком толстая женщина... Но не успел Казанова решить, какое ему отнести сюда событие далеких дней его молодости, как судно вошло в Канале Гранде и медленно поплыло дальше по широкому водному пути между дворцами. Сон Казановы вызвал в нем такое чувство, будто он всего лишь днем раньше уже совершил этот же путь. У моста Риальто он вышел на сушу, ибо прежде чем отправиться к синьору Брагадино, он хотел оставить свой чемодан и снять комнату в находящейся неподалеку небольшой дешевой гостинице, местоположение которой он помнил, а название забыл. Дом показался ему более ветхим или, по крайней мере, более запущенным, чем он представлял себе по памяти; угрюмый небритый слуга отвел ему неприветливую комнату с видом на глухую стену соседнего здания. Но Казанова не хотел терять времени; кроме того, его прельстила дешевая цена комнаты, так как в дороге он истратил почти все свои наличные деньги; поэтому он решил остановиться временно здесь, смыл с себя пыль и грязь, накопившуюся за долгий путь, секунду подумал, не надеть ли ему парадное платье, но счел все же более уместным остаться в прежнем, скромном и, наконец, вышел из гостиницы. До красивого небольшого дворца, где жил Брагадино, было всего сто шагов по узкому переулку и через мост. Казанова назвал себя молодому, довольно наглому слуге, который сделал вид, будто никогда не слыхал его прославленного имени, но потом вышел из покоев своего господина с несколько более приветливым лицом и пригласил гостя в комнаты. Брагадино сидел за завтраком у стола, пододвинутого к открытому окну; он хотел встать, но Казанова этого не допустил.
— Дорогой Казанова! — воскликнул Брагадино. — Как я счастлив, что вижу вас вновь! Да, кто бы мог подумать, что мы с вами еще когда-нибудь свидимся?
И он протянул ему обе руки. Казанова схватил их, как будто собираясь поцеловать, но не сделал этого и ответил на сердечное приветствие словами горячей благодарности, не лишенными высокопарности, от которой не была свободна его речь при подобных обстоятельствах. Брагадино предложил ему сесть и прежде всего осведомился, завтракал ли он. Получив отрицательный ответ, Брагадино позвонил слуге и дал ему нужные распоряжения. Когда слуга вышел, Брагадино выразил свое удовлетворение по поводу решения Казановы безоговорочно принять предложение Высшего Совета[8]: он не останется внакладе, потрудившись на пользу отечества. Казанова ответил, что он почтет за счастье, если Совет будет им доволен. Он говорил так, но думал совсем иное. Правда, он не чувствовал больше к Брагадино никакой ненависти, даже, скорее, был несколько растроган видом ставшего чудаковатым древнего старика с поредевшей белой бородой и воспаленными веками, сидевшего против него с чашкой, дрожавшей в худой руке. Когда он видел Брагадино в последний раз, ему могло быть столько лет, сколько Казанове сейчас; впрочем, Брагадино уже и тогда казался ему стариком.
Слуга подал завтрак, за который Казанова, не заставляя себя упрашивать, принялся с отменным аппетитом, так как в дороге лишь кое-как закусывал второпях. Да, день и ночь ехал он из Мантуи, так спешил он доказать Высшему Совету свое усердие и принести своему благородному покровителю неизмеримую благодарность. Он говорил это в оправдание почти неприличной жадности, с какой глотал дымящийся шоколад. В окно врывался тысячеголосый шум жизни, кипевшей на больших и малых каналах; однообразные выкрики гондольеров преобладали над всеми остальными звуками; где-то неподалеку, может быть, во дворце напротив, — не во дворце ли Фогаццари? — пел красивый высокий женский голос; по-видимому, он принадлежал совсем молодой женщине, ее даже не было еще на свете в те времена, когда Казанова бежал из свинцовых казематов. Казанова ел печенье, масло, яйца, холодное мясо и беспрестанно оправдывался в своей ненасытности перед Брагадино, смотревшим на него с довольным видом.
— Люблю, — воскликнул тот, — когда у молодых людей хороший аппетит! Насколько я помню, дорогой Казанова, отсутствием аппетита вы никогда не страдали! — И он вспомнил, как однажды, в первые дни их знакомства, обедал вместе с Казановой, вернее сказать, изумлялся, как и сегодня, своему молодому другу, ибо ему и тогда было до него далеко, это было ведь вскоре после того, как Казанова вышвырнул из дома врача, который вечными кровопусканиями едва не вогнал в гроб бедного Брагадино. Они заговорили о былых временах. Да, тогда жизнь была в Венеции лучше, чем теперь.
— Не везде, — сказал Казанова с тонкой усмешкой, намекая на свинцовые крыши.
Брагадино сделал движение рукой, как бы в знак того, что теперь не время вспоминать мелкие невзгоды. Впрочем, он и тогда пытался, к сожалению тщетно, спасти Казанову от кары. Да, если бы он уже тогда был членом Совета Десяти!..
Так разговор перешел на политику, и старик, воспламенившись своей темой, с остроумием и живостью своих молодых лет рассказал Казанове очень много интересного о нежелательном направлении умов части нынешней венецианской молодежи и об опасной крамоле, несомненные признаки которой замечаются в последнее время. И Казанова был совсем не плохо подготовлен, когда он вечером того же дня, который провел, запершись в своей мрачной гостиничной комнате и лишь для успокоения своей встревоженной души разбирая и отчасти сжигая бумаги, отправился в кафе Кадри, находившееся на площади святого Марка и слывшее главным местом встречи всех вольнодумцев и ниспровергателей основ. Старый музыкант, бывший некогда капельмейстером в театре Сан-Самуэле, том самом, где тридцать лет назад Казанова играл на скрипке, сразу узнал его и самым непринужденным образом ввел в кружок, состоявший преимущественно из молодых людей, чьи имена, как особенно подозрительные, остались у него в памяти после утренней беседы с Брагадино. Но его собственное имя, по-видимому, совсем не произвело на других того впечатления, которого он мог бы ожидать; большинство присутствующих, очевидно, не знало о Казанове ничего, кроме того, что когда-то, давным-давно, он по какой-то причине, а может быть, и совсем безвинно, был заключен в свинцовую камеру, откуда бежал, подвергаясь многочисленным опасностям. Книжонка, в которой он много лет назад так живо описал свой побег, правда, была известна, но, по-видимому, никто не прочитал ее с должным вниманием. Казанову несколько забавляла мысль, что он может содействовать тому, чтобы каждый из этих молодых господ поскорее узнал по личному опыту, каковы условия жизни под свинцовыми крышами Венеции и насколько труден побег оттуда; но, не выдав ничем своей коварной мысли и не дав повода к тому, чтобы кто-нибудь мог о ней догадаться, он также и здесь сумел разыграть из себя безобидного и любезного человека и вскоре на свой манер занял общество рассказами о разных веселых случаях, приключившихся с ним по пути из Рима; эти истории, в общем довольно правдивые, все же были пятнадцати- или двадцатилетней давности. Его еще с увлечением слушали, как вдруг кто-то, вместе с другими новостями, принес весть о том, что какой-то Мантуанский офицер убит поблизости от имения своего друга, где он гостил, и тело его ограблено разбойниками вплоть до рубашки. Так как подобные нападения и убийства в ту пору были нередки, этот случай не возбудил у присутствующих особого интереса, и Казанова продолжал свой рассказ с того самого места, на котором его прервали, точно это происшествие имело к нему так же мало отношения, как ко всем остальным; более того, освободясь от тревоги, в которой он сам себе вполне не признавался, Казанова стал рассказывать еще забавнее и смелее.