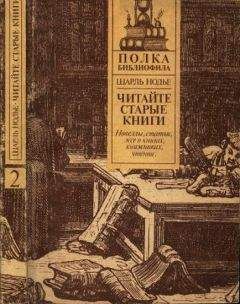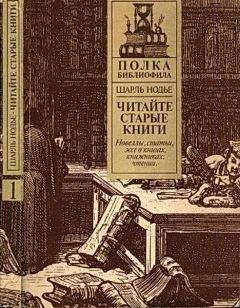К тому же в древности существовала общественная сила, которая хранила ум народов и избавляла новые поколения от грубейших заблуждений предков. Век глупостей был короток. Этот допотопный страж общественного порядка, эта сила, утратившая ныне свое могущество, именовалась здравым смыслом. Благодаря ему безумные идеи не переживали своих безумных творцов; древние не знали книгопечатания, поэтому у них сумасшествие, несмотря на всю свою заразительность, не было властно над потомками. В наши же дни книга заменяет человека, и, если волею случая ей удается задеть воображение или чувства читателей, она, подобно написавшему ее безумцу, становится целительницей и властительницей дум. С легкой руки Гутенберга и его присных астрология царила над умами два столетия, алхимия — тоже два, вольтерьянство — одно столетие, и я не поручусь, что столетие это уже подошло к концу. В Риме все эти ”науки” не протянули бы и четверти века. Да что там, во времена Цицерона они ушли бы в небытие по прошествии пяти лет, ибо на безрассудные сочинения не нашлось бы ни переписчиков, ни покупателей.
В древности получали хождение лишь книги, разрешенные цензурой; всевластным цензором в идеальных республиках был тот неумолимый тиран, о котором я уже говорил; имя ему — здравый смысл, чистосердечие, совесть, разум целого народа. В нынешнем же обществе имеют хождение тысячи книг, хорошие и плохие, полезные и вредные, нелепые и смешные, возвышающие человека и окончательно его развращающие, — и никому нет до этого дела.
По этой-то причине с некоторых пор безумие и безумцы могут претендовать на внимание библиографов и историков литературы. Во времена Аристотеля, Горация и Квинтилиана это никому и в голову бы не пришло.
Одного из самых великих безумцев, родившихся на свет в эпоху книгопечатания, звали Франциск Колонна, или Колумна{214}. Этого монаха-доминиканца, жившего то ли в Тревизо, то ли в Падуе, свели с ума две страсти сразу, а ведь достаточно и одной, чтобы лишить равновесия самый светлый ум. Первой страстью Франциска Колумны была любовь к древности и ее памятникам; к счастью, в наше время страсть эта способна внушить некоторое снисхождение. Второй его страстью, на мой взгляд, еще более достойной снисхождения, даже если речь идет о доминиканце, была любовь. Некая Ипполита, или Полита, которую он окрестил на греческий манер Полией, что дало повод к самым неожиданным догадкам, лишила беднягу остатков разума, а, поскольку судьбе было угодно сделать Колумну образцовым безумцем, возлюбленная его оказалась столь же безумной, сколь и он сам, то есть до безумия ученой, что, заметим в скобках, дало любителям аллегорий возможность утверждать, что под именем Полии скрывается не кто иная, как сама древность.
Со всем простодушием, на которое он был способен, поклонник Полии сообщает на неслыханном языке, который поставил бы в тупик самого Эдипа, что первоначально намеревался избрать наречие естественное и удобопонятное (чего бы я не дал за то, чтобы узнать, какое наречие брат Франциск Колумна считал естественным!), но затем отказался от этого намерения в угоду своей возлюбленной, которая умолила его скрыть тайну их любви от непосвященных. Это ему в высшей степени удалось: смысла ”Гипнэротомахии Полифила” (так называется книга) не разгадал даже великий Фоссиус, темен он и для нас. Написана ”Типнэротомахия” на испорченном итальянском языке, пересыпанном древнееврейскими, халдейскими, сирийскими, латинскими и греческими словами, а также никому не ведомыми архаизмами, диалектизмами и идиомами, которые приводили в недоумение даже такого бесконечно проницательного ученого мужа, как Тирабоски. Франциск Колумна может считаться прародителем всяческого наукообразия и словотворчества; созданная его горячечным воображением чудовищная Вавилонская башня может обернуться кладезем премудрости для тех филологов, которые сумеют проникнуть в тайны его стиля и языка, закрыв глаза на путаные мысли. Что же касается украшающих книгу великолепных гравюр, величественных и стройных, то о них я не стану здесь распространяться; это — дело художников, чьего внимания и даже поклонения гравюры из ”Гипнэротомахии” безусловно заслуживают.
Отсюда следует, что безумец наш был весьма сведущ в словесности и изобразительном искусстве: недаром Фелибьен не колеблясь ставит его гораздо выше Витрувия. ”Полифил” прекрасно разбирался также и в археологии; сочиненные им фантастические эпитафии и надписи ввели в заблуждение самых здравомыслящих и сведущих знатоков этой науки, — они не разглядели подделки, что, впрочем, всегда казалось мне необъяснимой загадкой, ибо латынь Франциска Колумны ничуть не правильнее его итальянского; оба они — языки совершенно небывалые.
В отличие от Франциска Колумны Гийом Постель{215} не знал любви, если же он был влюблен в свою ”мать Жанну”, значит, он был безумен вдвойне, однако с братом Франциском его сближает то, что он безумствовал на всех ученых наречиях земли. Гийом Постель располагал изумительным обилием сведений о самых разных разностях, знать которые, пожалуй, небесполезно, а также о множестве других вещей, которые лучше всего не знать вовсе. Хотя Постель вполне мог бы создать из всех тех наречий, которые изучил за свою исполненную трудов жизнь, один непереводимый язык, как это сделал Колумна, он, по всей видимости, отнюдь не стремился поразить читателя странным смешением несходных элементов; к чести его можно даже сказать, что фразы его звучали бы совершенно ясно, если бы ясными бывали хоть изредка его мысли. Две навязчивые идеи, владевшие им всю жизнь и составляющие содержание его самых знаменитых книг, помешали этому поразительному человеку заняться чем-нибудь толковым: первая из них — установление всемирной монархии с французским королем на троне, честолюбивая мечта полоумного патриота, которая, однако, едва не сбылась недавно на наших глазах; вторая — окончательное искупление грехов рода человеческого благодаря воплощению Иисуса Христа в женщину; если убрать мистический оттенок, то и у этой идеи найдется в наши дни немало сторонников. Живи Постель в XIX веке, он непременно стал бы одним из тайных советников Наполеона и видным деятелем менильмонтанского конклава{216}, хотя от этого вовсе не перестал бы, говоря словами Рабле, быть ”безумцем фанатическим, фантастическим, гиперболическим, безумцем истинным, совершенным и полным”, из чего, пожалуй, следует, что безумия в нем было хоть отбавляй.
Невероятной химере нового искупления, которое свершится благодаря старой венецианской святоше по имени ”мать Жанна”, посвящены три сочинения Постеля: ”Весьма замечательные победы женщин Нового Света” (Париж, 1553, 16°), ”Prime nove de altro monde” (Венеция, 1555, 8°) и ”Il libro della divina ordinatione” (Падуя, 1555, 8°). Я полагаю, что конволют двух последних книг, имеющийся в моем собрании, — единственный сохранившийся их экземпляр; этот тощий томик был девяносто два года назад оценен в каталоге библиотеки Боза, составленном книгопродавцем Мартеном, в 300 франков; на распродаже библиотеки Генья он стоил 900 франков, а на распродаже собрания Маккарти — 500. В конце концов он попал ко мне{217}. Все эти библиографические подробности я сообщаю вам лишь по одной незначительной причине — дабы напомнить, что на всякого безумца, публикующего подобные нелепости под действием ”скрибомании”, или мании сочинительства, всегда найдется библиоман, которого столь же сильная страсть заставит купить их.
Надеюсь, никто не будет на меня в обиде, если я перенесусь на столетие вперед и перейду от Гийома Постеля к Симону Морену; я позволю себе это небольшое нарушение хронологии во имя логики моего повествования, если, конечно, в библиографии безумных творений может быть логика.
Симон Морен, автор опубликованных в 1647 году ”Мыслей”, близок Постелю своими фантазиями, хотя решительно уступает ему в отношении эрудиции. Свой жизненный путь Морен начал писарем, затем держал трактир, и вот тут-то его осенило: он ощутил себя Богом-сыном. Проникнувшись этим убеждением, он простодушно решил поделиться радостной вестью со всем миром, однако двор и духовенство отказались поверить ему на слово, а суд Шатле не любил шуток на подобные темы: на Гревской площади разожгли костер и на этом костре, возле которого наказывали кнутом женщин легкого поведения, сожгли и Морена, и его ”Мысли”. Несчастный Морен, ставший одной из последних жертв религиозной нетерпимости, не угадал, когда родиться. Живи он в наши дни и будь чуть поскромнее в своих претензиях, он просто-напросто основал бы новую церковь, избрал себя ее главой и тем бы дело и кончилось.
Теперь мне придется вновь отступить назад и вернуться к царствованию Генриха IV, дабы сказать несколько слов о ”Квинтэссенции четвертой части ничего” и ”Диа-лактической секстэссенции” сьера Демона{218} — книгах, которые библиофилы ценят довольно высоко, хотя и не знают точно, к какому разряду их отнести. Большинство библиографов зачисляло эти сочинения, рассказывающие обо всем понемногу, в отдел ”История Франции”, аббат Лангле Дюфренуа отнес их к ”мистической теологии”, а господин Брюне возвратил творения Демона в лоно ”поэзии”. Все дело в том, что безумный сьер Демон был сложной натурой и в книгах его можно найти несообразности на все вкусы. Я бы не удивился, если бы алхимики также признали в нем родственную душу, а живи он в XIX веке, ему вообще не было бы цены, ибо он обладал чудесной способностью усваивать все заблуждения и сумасбродства своего времени. Демон отнюдь не был мономаном, он был многогранным маньяком, всегда готовым повторять все глупости, что представлялись его взору или доносились до его слуха, фантазером-хамелеоном, наделенным талантами этого легендарного животного, но отражавшим всегда одно и то же — безумие!”Квинтэссенция” и ”Диалактическая секстэссенция” Демона — это в самом деле квинтэссенция и секстэссенция абсурда. Недаром в те времена, когда абсурдное было еще непростывшей новостью, книги эти считались великой драгоценностью. Сегодня известности у них скорее всего поубавилось бы. В нашу эпоху постоянных усовершенствований им грозит серьезная конкуренция: нынче абсурдное так расплодилось, что сильно упало в цене.