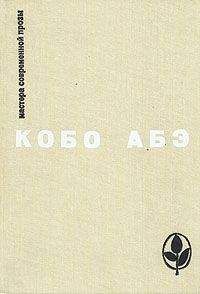Я жаждал приблизиться к тебе и в то же время жаждал отдалиться от тебя. Хотел узнать тебя и в то же время противился этому. Стремился видеть тебя и в то же время стеснялся тебя видеть. И вот в таком неопределенном состоянии, когда трещина между нами становилась все глубже, мне не оставалось ничего другого, как сжимать руками расколотый стакан, изо всех сил стараясь сохранить его форму.
Все это я прекрасно понимал. Понимал, что это была беспорядочная ложь, мною самим измышленная и очень для меня удобная, — будто ты жертва, прикованная цепью ко мне, уже не имеющему на тебя никаких прав. И ты безропотно, по собственной воле обрекла себя на такую участь. И не к тебе ли самой относилось сияние, промелькнувшее на твоем лице, когда из серьезного оно стало улыбающимся? Значит, как только тебе вздумается, в любую минуту ты можешь покинуть меня. Но представляешь ли ты себе, как это страшно для меня? У тебя есть тысяча выражений лица — у меня ни одного. Но стоило мне вспомнить, что под кимоно у тебя тело и кожа неповторимой эластичности, неповторимой температуры, я начинал серьезно думать о том, что конца моим мучениям не будет до тех пор, пока я не проткну твое тело огромной иглой — даже если это лишит тебя жизни — и не превращу тебя в экспонат коллекции.
И все это потому, что внутри меня терзали друг друга стремление восстановить тропинку между нами и мстительность, заставляющая желать твоего уничтожения. В конце концов я уже не мог различить, где одно чувство, где другое, и поза — стрела моего лука всегда направлена на тебя — стала привычной, повседневной, а потом в моем сознании неожиданно высветилось лицо охотника.
Лицо охотника не может принадлежать к «гармоничному, интровертному типу». С таким лицом я либо превращусь в друга пичужек, либо, в противном случае, в добычу диких зверей. В таких условиях решение мое не только не представлялось неожиданным, но, можно сказать, было неизбежным. Может быть, потому, что я был ослеплен двойственным характером маски — отрицание лица и одновременно создание нового лица — и упустил из виду основное: даже это ослепление есть одна из форм действия, — может быть, поэтому неминуемым для меня оказался такой кружный путь.
Существуют «мнимые числа». Странные числа, которые при возведении в квадрат превращаются в отрицательные. В маске тоже есть нечто схожее с ними: наложить на маску маску — то же самое, что не надевать ее вовсе.
* * *
Стоило лишь выбрать тип — остальное было просто. Одних фотографий, собранных в материалах по моделированию лица, я просмотрел шестьдесят восемь, и больше половины из них принадлежало к «типу лиц, выдающихся вперед у носа». Все было готово, даже более чем готово.
Я решил немедленно приступить к работе. Под руками у меня никаких образцов не было, но я попытался рисовать в своем воображении лица, как картину, написанную невидимой краской, накладывая слой за слоем и так на ощупь определяя каждый раз, какое впечатление производят они на тебя. Прежде всего на слепке из сурьмы я замазал вспененной древесной смолой все места, изъеденные пиявками. Сверху вместо глины, следуя линиям Лангера, я стал слой за слоем в определенном направлении накладывать тонкие пластиковые ленты. Благодаря полугодовой тренировке мои пальцы, точно пальцы часовщика, на ощупь чувствующие искривление волоска маятника, разбирались в мельчайших деталях лица. Цвет лица я подбирал по цвету кожи у запястья. Чтобы виски и подбородок были светлее, я использовал материал с добавлением небольшого количества двуокиси титана, чтобы щеки были розоваты, добавлял в материал красный кадмий. По мере приближения к поверхности я все осторожнее использовал красящие вещества, особенно большое искусство потребовалось, чтобы легким, сероватым налетом у ноздрей естественно передать возраст. Наконец растопленной древесной смолой я залил прозрачный слой — тонкую пленку, содержащую флуоресцирующие вещества и имеющую коэффициент преломления света, близкий кератину, на котором была воспроизведена поверхность купленной мной кожи. Затем на очень короткое время я подверг полученную оболочку действию пара под большим давлением, и она натянулась и застыла, как влитая. Морщин пока не было, и поэтому она была гладкой, не имеющей выражения. Но все равно создавалось впечатление, будто это нечто живое, только что содранное с живого человека.
(Пока мне удалось добиться этого, прошло двадцать два или, кажется, двадцать три дня.)
Следующая проблема: что делать с границей соединения маски с кожей. На лбу ее удастся прикрыть волосами. (К счастью, волос у меня больше чем достаточно, и они немного вьются.) Вокруг глаз, если сделать побольше мелких морщин, наложить посильнее краску и надеть очки, никто ничего не заметит. Губы можно будет заправить внутрь, а края закрепить на деснах. Ноздри удастся соединить с более твердыми трубками и ввести трубки внутрь. Некоторые затруднения вызывал участок у подбородка. Выход был только один. Скрыть его бородой.
Вырвав из головы и отобрав наиболее тонкие волосы, я втыкал, стараясь сохранить направление и угол, волосок за волоском, по двадцать пять — тридцать штук на каждый квадратный сантиметр маски. Закончилась и эта работа — она одна потребовала двадцать дней, — но меня еще мучило чувство психологического протеста. В прошлом веке борода была обычным явлением, но сейчас, что ни говори, это несколько претенциозно. К примеру, стоит мне услышать слово «борода», и, как это ни прискорбно, оно ассоциируется с постовым полицейским у вокзала, ты его помнишь?
Все существующие бороды не ограничиваются, конечно, бородами бандитов или героев. Есть бороды различных типов. Есть бороды пророков, бороды европейских аристократов. Есть бороды Кастро, есть, не знаю, как они называются, чрезвычайно современные бороды, которые любит носить молодежь, корчащая из себя людей искусства. Хотя и трудно избежать несколько экстравагантного вида, когда ты с бородой и в темных очках, но поскольку другого выхода у меня не было, нужно было только постараться сделать все так искусно, чтобы она не производила неприятного впечатления.
Ты все видела и все знаешь сама, и вряд ли нужно снова говорить о том, насколько успешной оказалась моя работа. Мне самому не хотелось ее оценивать, и не было у меня какого-либо другого плана, чтобы сделать ее по-иному — то, что получилось, удовлетворяло меня. Правда, некоторых угрызений совести я не мог избежать, но…
* * *
Нет, я случайно обронил слова «некоторые угрызения совести», но если вдуматься, в них действительно заключается глубокий смысл. Мысли мои еще не отлились в слова, были совсем неясными, и это вызывало какое-то неприятное чувство, будто вскочил прыщик на языке, начинавший саднить, стоило открыть рот, — чувство, предостерегавшее меня: не занимайся пустой болтовней…
В ту ночь, когда я закончил наконец бороду, на большом пальце правой руки пинцет оставил кровавую мозоль. Боль, от которой я весь взмок, угольками горела внутри глаз. Сколько я их ни вытирал, вновь и вновь выступали слезы, липкие, как разбавленный мед, и глаза туманились, как грязные оконные стекла. Когда я поднялся, чтобы пойти в ванную умыться, уже забрезжил рассвет — я и не заметил, как прошла ночь. Невольно зажмурившись от ярких бликов утреннего солнца, рассеченных оконным переплетом, я неожиданно испытал стыд, чувство, уже однажды пронзившее мой мозг.
Я вспомнил сон, который видел однажды. Это был сон, похожий на старый немой фильм, начинавшийся с очень милой сцены: однажды в конце лета или самом начале осени я — мне было тогда лет десять, а может, и меньше — рассеянно следил за тем, как возвратившийся с работы отец снимает в передней ботинки. Но вдруг мир рушится. Возвратился еще один отец. И этот отец, как ни странно, тот же самый человек, что и прежний отец, — другая у него только шляпа. У старого отца — соломенная шляпа, у нового — мягкая, фетровая. Увидев отца в соломенной шляпе, отец в мягкой шляпе с презрением посмотрел на него и преувеличенно резким жестом показал ему, что тот ошибся адресом. Тогда тот, что был в соломенной шляпе, в полной растерянности, со снятым ботинком в руке, грустно улыбнувшись, чуть не бегом выскочил из дома. Сердце разрывалось у меня в груди, когда я, совсем еще ребенок, смотрел ему вслед… Тут фильм оборвался. И после него остался лишь горький осадок.
Сон можно было бы счесть детской реакцией на смену времен года… Но если бы дело было только в этом, разве сохранились бы в течение десятилетий так ясно и отчетливо все ощущения, испытанные мной тогда? Едва ли. Две шляпы, которые я увидел, были чем-то иным. Может быть, символом лжи, недопустимой в отношениях между людьми… Точно можно сказать лишь одно: смена шляпы привела к тому, что доверие, которое я питал прежде к отцу, оказалось полностью подорванным… Наверно, с тех пор я все время испытываю стыд за отца.