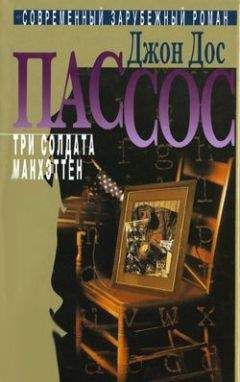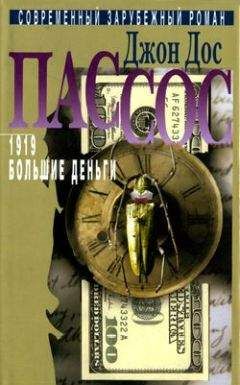Вот факты относительно моей жизни этим летом и ответы на вопросы, которые ты задаешь в своих на редкость однообразных письмах. Перечтя их, я заметила, что ты-то мне сообщаешь весьма мало фактов. Ты пишешь не мне, а тому выдуманному образу, с которым я отнюдь не желаю состязаться. Сведения о тебе я получила от сестры и других твоих заступников. Ты навещал сестру, а также Манилия с Ливией (Торкватов). Ты учил их детей плавать и управлять парусной лодкой. Ты учил детей воспитывать собак. Ты написал кучу стихов для детей и еще одну венчальную песнь. Повторяю, ты потеряешь свой поэтический дар, если будешь его так растрачивать. Подобные стишки только усугубят недостаток, которым и так страдают многие твои сочинения, – просторечие и провинциализм. Многие даже не считают тебя римским поэтом. Мы с тобой признаем, что Вер не наделен от природы таким талантом, как ты, но и манера его поведения, и стихи безупречно изящны и даже изысканны, в то время как ты продолжаешь щеголять своей северной неотесанностью.
Это письмо, как и все письма, написано совершенно зря. Однако я хочу сообщить вот еще что: в последний день сентября мы с братом устраиваем званый обед – надеюсь, ты придешь. Я пригласила диктатора с женой (кстати, говорят, что ты одарил нас еще несколькими эпиграммами; почему бы тебе не признать, что ты ничего не смыслишь в политике и не интересуешься ею? Что за удовольствие разражаться непристойными звуками за спиной у великого человека?). Я пригласила также его тетку, Цицерона и Азиния Поллиона.
Восьмого я двинусь на север. Захвачу с собой нескольких друзей, в том числе Мелу и Вера. Какое-то время мы погостим в Кануе у Квинта Лентула Спинтера и Кассии. Может, ты присоединишься к нам девятого, а через два-три дня мы вместе вернемся в город.
Если ты решишь приехать в Каную, пожалуйста, не рассчитывай, что я буду коротать с тобой бессонницу. Прошу тебя наконец понять, что такое дружба, оценить ее преимущества и не выходить за ее границы. Она не предъявляет претензий, не дает права собственности, не порождает соперничества. У меня большие планы на будущий год. Буду жить совсем не так, как в минувший. Обед, на который я тебя приглашаю, даст тебе об этом представление.
XXVI-А. Катулл
Miser Catulle, desinas ineptire
Et quod vides perisse perditum ducas.
Fulsere quondam candidi tibi soles,
Cum ventitabas quo puella ducebat,
Amata nobis quantum amabitur nulla.
Ibi illa multa turn iocosa fiebant
Quae tu volebas nec puella nolebat.
Fulsere vere candidi tibi soles.
Nunc iam ilia non volt; tu quoque inpotens, noli,
Nec quae fugit sectare, nec miser vive;
Sed obstinata niente perfer, obdura.
At tu, Catulle, destinatus obdura.
Катулл измученный, оставь свои бредни:
Ведь то, что сгинуло, пора считать мертвым.
Сияло некогда и для тебя солнце,
Когда ты хаживал, куда вела дева,
Тобой любимая, как ни одна в мире,
Забавы были там, которых ты жаждал,
Приятные – о да! – и для твоей милой.
Сияло некогда и для тебя солнце,
Но вот, увы, претят уж ей твои ласки.
Так отступись и ты! Не мчись за ней следом,
Будь мужествен и тверд, перенося муки.
А ты, Катулл, терпи! Пребудь, Катулл, твердым!
XXVI-Б. Заметки Корнелия Непота
(Запись сделана позже)
«Разве тебя не поражает, – спросил я, – что Катулл пускает это стихотворение по рукам? Не могу припомнить, чтобы так, без утайки, открывали свое сердце». "Тут все поражает, – ответил Цицерон, вздернув брови и понизив голос, словно нас могли подслушать. – Ты заметил, что он постоянно ведет диалог с самим собой? Чей же это второй голос, который так часто к нему обращается, голос, требующий, чтобы он «терпел» и «крепился»? Его поэтический гений? Его второе "я"? Ах, друг мой, я противился этим стихам сколько мог. В них есть что-то непристойное. Либо это непереваренный жизненный опыт, не до конца преображенный в поэзию, либо он чувствует как-то по-новому. Говорят, его бабушка с севера: может, это первые порывы ветра, подувшие на нашу литературу с Альп. Стихи не римские. Читая их, римлянин не знает, куда девать глаза, римлянин краснеет от стыда. Но они и не греческие. Поэты и раньше рассказывали о своих страданиях, но их страдания были уже наполовину залечены поэзией. А в этих! – тут нет утоления печали. Этот человек не боится признать, что страдает. Быть может, потому, что делится этим страданием с собственным гением. Но что это за второе "я"? У тебя оно есть? У меня оно есть?"
XXVII. Цезарь из Рима – Клеопатре в Карфаген
(3 сентября)
(Это письмо, написанное рукой Цезаря, было послано вместе с официальным приветствием царице при ее приближении к Риму.)
Ваше величество, я очень сожалею, что к той искренней радости, которую я хотел выразить по поводу вашего приезда, мне приходится присовокупить следующее напутствие: напомнить, какое важное значение я придаю тем условиям, на которые вы согласились, когда решалась эта поездка в Рим. Речь идет о численности вашей свиты, правилах поднятия на шестах знаков царского достоинства и моем требовании не допускать в вашу свиту детей до пяти лет. Если этот договор не будет соблюден, я буду вынужден, к своему и вашему огорчению, принять меры, унижающие наше достоинство и противные тому уважению, которое я к вам питаю. Если среди ваших приближенных есть дети, оставьте их в Карфагене либо отошлите назад в Египет.
Но пусть суровость моих слов не обманывает вас насчет того удовольствия, с каким я предвкушаю ваше пребывание в Риме. Город приобретает для меня новый интерес, когда я думаю, что скоро покажу его царице Египта – тот Рим, который уже существует, и тот, который я замыслил. В мире не так уж много правителей, а среди них еще меньше тех, кто хотя бы подозревает, какой ценой решаются судьбы народов. У царицы Египта величие ума не уступает величию ее положения.
Необходимость вести за собой людей многократно усугубляет одиночество, на которое обрекла человека природа. Каждый приказ, который мы издаем, увеличивает наше одиночество, и каждый знак почтительности по отношению к нам еще больше отдаляет нас от прочих людей. Ожидая приезда царицы, я сулю себе некоторое облегчение от того одиночества, в каком я живу и тружусь.
Сегодня утром я посетил дворец, который готовят к приезду царицы. Было сделано все, чтобы обеспечить ее удобства.
XXVII-А. Первое письмо Клеопатры Цезарю
(2 сентября)
(Написано иероглифами с перечислением всех титулов царицы, ее родословной и пр. на огромном листе папируса и снабжено латинским переводом, послано заранее через римскую почтовую службу, до того как царица отправилась в путь.)
Царица Египта приказала мне, ее недостойному гофмейстеру, подтвердить получение письма диктатора и его подарков.
Царица Египта благодарит диктатора за полученные подарки.
XXVII-Б. Второе письмо Клеопатры Цезарю
(1 октября)
(Послано с царской галеры по прибытии в Остию.)
Диктатор писал царице Египта о том, как тяжко бремя власти.
Но тяжко не только оно.
Царица, великий Цезарь, к тому же еще и мать. Ее положение не только не избавляет ее от сердечных тревог, которые известны любой матери, но и усиливает их, особенно если у детей хрупкое здоровье и нежная натура. Вы мне говорили когда-то, что были любящим отцом. Я вам верила. Вы утверждали, что вас облыжно обвинили в том, будто государственная необходимость вынудила вас бессердечно поступить с дочерью. (По-видимому, Юлия по настоянию отца разорвала помолвку с женихом, чтобы выйти замуж за Помпея. Она умерла прежде, чем Цезарь и Помпей затеяли гражданскую войну, но брак ее был счастливым.)
Вы были бессердечны по отношению ко мне и не только ко мне, но и к ребенку, и притом ребенку не простому, ибо он – сын самого великого человека на свете. Он вернулся в Египет.
Вы описываете одиночество властителя. Властитель справедливо чувствует, что большинство людей относится к нему не без корысти. Но разве властителям не грозит опасность усугубить свое одиночество, приписывая другим одни лишь эти побуждения? Я боюсь, что если он будет так относиться к людям, то сердце властителя может обратиться в камень и в камень обратятся сердца всех, кто к нему приближается.
Подъезжая к Риму, я хочу сказать его повелителю: я – и царица, и служанка Египта и постоянно пекусь о судьбе моей родины, однако я не чувствовала бы себя царицей, если бы забыла, что, кроме всего, я женщина и мать.
Повторяю вашу же фразу: пусть суровость моих слов не обманывает вас насчет того удовольствия, которое я предвкушаю от своего пребывания в Риме.
Я приписываю вашу суровость тому, что вы и правда создали вокруг себя стену одиночества, чрезмерного даже для властителя мира. И сами говорите, что, быть может, мне удастся облегчить вам это бремя.
XXVIII. Катулл – Клодии в Рим
(Эти два письма, написанные, по-видимому, 11 или 12 сентября, так и не были отправлены. Оба они черновики письма, уже приведенного под номером XIII. Катулл не уничтожил их сразу, ибо две недели спустя они были обнаружены в комнате поэта тайной полицией Цезаря, и копии их были представлены диктатору.)