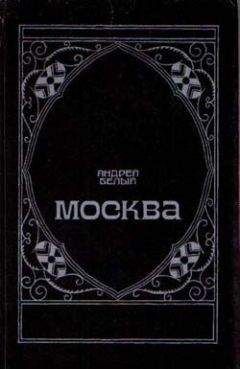Пэпэш, не ответя, показывал с дьявольской радостью им на отверстие двери глазами.
– По камерам!
– Там – гулэ ву!
Пертопаткин к нему приставал:
– Верю в правду, в сознание, в категорический императив, а не в грубое право насилия, здесь практикуемое.
Николай Николаич же ручку – в карман, а другою в бородку; профессору пузом своим передрагивал:
– Как самочувствие ваше, коллега?
– Прекрасное…
– Стул?
Глаз напучив, – бараний, пустой, – ну приплясывать ножкою, «Тонкинуаз» напевая; и – вдруг: к Серафиме:
– Клистир ему ставили? Ставьте!
И броской походкой – бежать: коридорами; и – выклю-
чатели щелкали; в ламповых стеклах выскакивал блеск, – электрический, белый.
____________________
Губа – принадлежность едальная; фейерверк слов в ней – откуда?
Под небо ракетою выбросил: силою мысли свершится-таки обузданье гиббона прямящею правдой: «да» правды есть – категорический императив, что ни скажешь!
Пузырь из плевы – человеческий глаз: так откуда же фейерверк?
С ним он шарчил коридорами: правда есть первоначало, «пра» в «да»!
Шаркал шаг; и – да-с: – раз; и – да-с: два-с!
– Голова, – ладно: при! – Пятифыфрев подбадривал
Три… Семь…
И – темь.
Николай Николаевич – действовал.
____________________
Скорби седые его принимала на грудь; и расческою космы чесала; к ней близил единственный глаз; ей гырчал успокоенно в ухо:
– Мой батюшка, «ламбда» – простое число…
– «Ламбда» эс вычетом трех, разделенное на два, – Бернуллиево!
____________________
Как лавина, из белого облака, грозно сверкнув серебром, грохотаньем и мраком напучась, – тяжелою массою рушится в пропасти, – так Серафима, из воздуха воздух, серебряная в серебре, – грохотала.
Как, чорт, отчество барышни в фартучке? Ротик – малиновый; личико – мило овальное; платье – вишневое… Ей он подшаркнул:
– Ну вот-с!…
– Говоря рационально…
– И – я-с!
И смотрел исподлобья с приятным лукавством, в обязанность влопавшись: личность свою на себя, как халат повисающий в шкапе, надеть.
На плохом самокате возможна езда; взяв больной интеллект в свои руки, – поехал на нем: дипломат!
– Я-с – к услугам-с!
У губ появилась ирония.
Что, мой родной?
И глаза заглянули в глаза.
И взяла его за руки; он же заплатой – в звезду законную; глазом – в нее, скрывши дырочку в памяти, темою выбрав вопрос отвлеченнейший.
Вы камфару положите; и к ней через месяц придите– она – улетучится…
И перешлепнул губою:
– И – я: в свои думы.
И клок бороды ухватив, ткнул под нос:
– Полагаю: в системе Минковского время быстрее…
Прислушался к голосу из-за стены: Николай Николаич, морская свинья, видно, свинствует в номере «шесть».
– Шут ломается!
Нос завернул, будто запах услышал плохой:
– Фу ты, чорт, – растерял свои мысли.
– О чем я?
– О времени.
Вспомнил: к столу – начертать знак числа:
– Чтоб представить его, – показал ей число, – надо взять единицу; и к ней, говоря рационально, приписывать столько нулей, чтобы два миллиарда лет жизни наполнить и ночи, и дни, приставляя нули к единице.
Отставивши ногу, качнул сединой, переживши число, им представленное, в миллиардах лет жизни, осиливаемой черчением ноликов, между двух жестов руки Серафимы Сергевны, протянутой к скляночке с бромом, и скляночку эту на место поставившей.
– Вы – Серафима?… Простите, пожалуйста, – отчество?
– Я – Серафима Сергевна.
– И я говорю: Серафима Сергевна!
Похлопал себя по груди; и, – огладивши бороду, сел.
Серафима Сергевна смеялась здоровым, грудным своим смехом; оправила скатерть:
– Я чай заварю.
Наводила уют.
– Кипяток: в номер семь, – с тихой силою: к двери.
Рачком прибежал чернокан; сел у ног и свой ус философски развеял; профессор бросал ему крошечки, припоминая, как мухи садились на нос; но кусаки исчезли, пришли тараканы.
Они распивали чаи; голова Галзакова в дверях появилась; за ней Несотвеев стоял:
– Сестра?
– Брат?
И профессор, поднявшися с кресла, их звал к чаепитию; стулья придвинул им сам; и горячий стакан передав Галзакову, он стал занимать разговором гостей:
– У китайцев «два» – «пу», или – «уши»…
– Поди ж ты, – Матвей обжигался губами.
– Шесть: «Титисит упа» – зулус говорит, – и вознес разрезалку в окошко, под звезды он. – Значит: взять палец большой руки, левой-с, когда пересчитана правая-с!
Так это выревнул, что таракан, крошки евший, – фрр: в угол!
Все – в смех.
Серафима Сергевна сидела с расплавленным личиком: в розовом жаре своем.
Николай Галзаков подмигнул:
– Не нарадуешься: голова отрастает!
Профессор же пил с наслаждением чай; он подставил стакан:
– Еще, Наденька!
– Я – Серафима Сергевна.
– А?
И – почесался за ухом: когда он, бывало, работу откладывал, то – шел он к Наденьке: броситься словом!
Матвей Несотвеев шептал Серафиме:
– Как мать и как дочь ему будете!
– Значит – близнята, – решил Николай Галзаков, опрокинув на блюдце стакан.
Значит: —
– Лир —
– и Корделия!
Кэли, Лагранж и Кронекер, как тени родные, ходили за ним по пятам; эти образы он переделывал в факт юбилея, в плод жизни; неважно, с кем прожил ее: с Василисою иль с Серафимою…
Ночь исчезает на ночи, в которой сияет звезда; он звезду увидал в месте ока – затопами света: не свечку, которой жгли око; он, в звездное пламя взвитой, прядал пульсами жизни; на рану – на красную яму, – надели заплату «о н и»: не на жизнь!
Она – фейерверк!
Абелю, тени родной, лоб подняв на пустое пространство, твердил:
Исчисление Лейбница съел инженер!
И – в пустое пространство твердил:
– Социология, – вывод теории чисел!
А лоб, точно море, в пустое пространство свою уронивши волну, прояснялся:
Закон социального такта найдет выраженье в фигурном комплексе.
И – к Софу су Ли, —
– к этажерке:
– Мой батюшка, числа – комплексы живой социальной варьяции!
Так убеждал этажерку он: Софуса Ли.
Пифагора связав с Гераклитом, биение опухолей – на носу, на губе, на лопатке, в глазу – пережил сочетанием, переложением чисел, – не крови; кривые фигур представ-дял – перебегами с места на место: людей.
Игру выдумал.
– Будете «а»… – точно пулей сражал Пертопаткина.
– Стало быть… – оком наяривал дроби.
– Вы станьте сюда вот.
И оком толкал:
– Не туда-с!
– Ну, вы будете – «бе», – разрезалкой ловил Панту-кана.
– И, стало быть… – бил разрезалкой в плечо.
– Вы параболу справа налево опишете… – и разрезалкой параболу справа налево описывал.
– А Пертопаткин параболу слева направо опишет… – параболу слева направо описывал он.
Завернувши ноздрю, доставал свой платок: отчихнуть; носом – в небо: поднюхивал формулу.
– Ну-с, а теперь, – пальцы прятал под бороду; и их разбрызгивал в воздух из-под бороды:
– Разбегайтесь! —
– Из «бе-це-а» —
– в «а-бе-це»!
И Пертопаткин ему:
– Мы играем, как в шахматы!
– Это же-с шахматы нашего века… А в Индии в шахматы, – ну-те, – играли людьми: не фигурами; ставились воины; и – выводились слоны.
Параноик, дразнило, – ему из кустов:
– Каппкин сын это выдумал!
– Справьтесь в истории шахмат, – профессор в ответ.
И Пэпэш-Довлиаш с наслажденьем чудачества эти подчеркивал:
– Видите?
Видела: силится всем доказать, что профессор Коробкин – дурак; демонстрировал Тер-Препопанцу (я – что-де: оставим!):
– Вы видите сами!
Орлиная, цепкая лапа, схватившая курицу: курица в воздухе бьется; и – видит: из неба, из синего, злой и заостренный клюв к ней припал!
Умоляла его Серафима.
– Профессор, – сдержитесь.
Переорьентировать всю биографию (детство, Кавказ, надзирателя, годы учебы, женитьбы) – не просто; и так он с усилием сдерживал мысль, чтоб в нее контрабанда не влезла.
Себе объяснял, как попал в этот дом (знал, – в лечебнице, болен): его шибануло оглоблею до сотрясения мозга.
____________________
– Я все вот стараюсь понять его жизнь и ему показать: на картинках, – пыталась другим объяснить Серафима Сергевна. – Я их подбираю со смыслом; и этим подбором стараюсь помочь ему память о прошлом сложить; его бред – переводы действительно бывшего на язык образов, очень болезненных; образами излечить надо образы; вправить фантазию в факт.
Приносила альбом; и – подобранные мастера Возрожденья прошли: роем образов:
– Это – Карпаччио.
– Это – Мазаччио.
– Вот – Рафаэль, Микель-Анджело.
Точно родною дорогою от Рафаэля к Рембрандту вела, совершая в нем роды: —
– из фабул страдания вырос осмысленный облагороженный образ увенчанной жизни!
И над Микель-Анджело плакал он:
– Вот: человек.
И увидел: глаза ее, золотом слез овлажненные, – голубенели звездою.