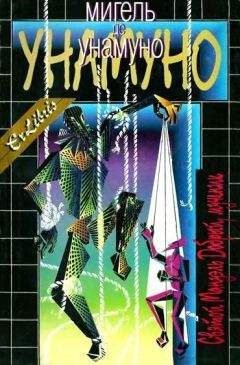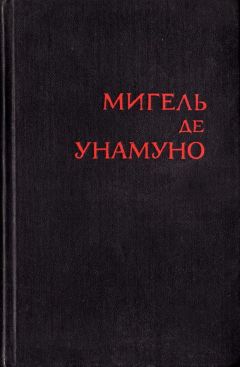Нет, это была не жизнь. Эметерио бродил по улицам, купался в людском море, пытаясь представить себе, о чем думают эти толпами идущие ему навстречу люди, и раздевал взглядом не только их тела, но и души. «Если бы я, как Мартинес, знал психологию, – говорил он себе, – как Мартинес, которого я поженил на Росите, ибо не может быть сомнения в том, что это я, я их поженил… Но, в конце концов, пусть живут в счастии и добром здравии, все остальное неважно. Вспоминают ли они обо мне? И в какие минуты?»
Поначалу он наблюдал за девицами с хорошенькими ножками, затем начал присматриваться и к тем, кто шел следом за этими ножками, потом занялся подслушиванием шуточек, которые отпускали молодые люди, и девичьих ответов и наконец увлекся преследованием парочек. Как его радовали дружные пары! «Смотри-ка, – огорчался он, – эту девушку уже оставил ее жених или кем он ей там приходился… Гуляет себе в одиночестве, ничего, пусть не унывает, скоро другой объявится… А те две парочки, по-моему, поменялись между собой. Это что еще за новая комбинация?… Сколько сочетаний по два можно составить из четырех единиц?… Я начинаю забывать математику…»
– Слушай-ка, – сказал Селедонио, повстречавшись с Эметерио в одном из переулков, где тот обычно занимался своими наблюдениями, или, правильнее сказать, застав его за одним из тех наблюдений, которыми он обычно занимался в переулках. – Слушай-ка! Тебе известно, что ты начинаешь приобретать популярность у молодых парочек?
– Как это понять?
– Они уже подметили, что ты к ним неравнодушен, и прохаживаются на твой счет. Прозвали тебя инспектором по женихам. И говорят: «Вот недоумок!»
– Ну что ж, не стану отнекиваться, они меня действительно интересуют. Мне больно видеть девушку, брошенную парнем, и такую, которой приходится часто менять кавалеров. Я от души огорчаюсь, когда замечательная девушка не может найти человека, который сказал бы ей: «Так вот где ты прячешься!» И когда, хотя она вывесила билетик с объявлением, к ней не является квартирант.
– Или постоялец.
– Как тебе угодно. Я очень все это переживаю и при других обстоятельствах сам открыл бы брачное агентство либо взялся за сватовство.
– Либо за…
– Мне все едино. Если поступать как я – из любви к ближнему, из милосердия, из человеколюбия, – то ни одно занятие не будет постыдным…
– Разумеется, не будет, Эметерио, разумеется, не будет. Вспомни, как говорил Дон Кихот, а он был настоящий рыцарь, образец и венец бескорыстия: «Не таково у нас ремесло сводни, каким ему следует быть, – это занятие требует благоразумия и осмотрительности, в каждой благоустроенной республике оно наинужнейшее, и допускать к нему следует только лиц благородного происхождения, а для надзора за их деятельностью подобает учредить должности инспектора и экзаменатора…» Он что-то еще говорил по этому поводу, но остальное я запамятовал…
– Да, да, Селедонио, меня это дело привлекает, но только как искусство, как искусство ради искусства, совсем бескорыстно, и не потому, что я желаю способствовать благоустройству республики, просто мне хочется, чтобы людям было хорошо, да и я бы веселился душой, видя и ощущая их радость.
– И вполне естественно, что Дон Кихот испытывал слабость к сводням и прочим подобным особам. Вспомни, с какой материнской лаской ухаживали за ним девушки, которых принято называть девицами легкого поведения. А милосердная Мариторнес! Она могла начисто отбросить все приличия, если требовалось вдохнуть новые силы в ослабшего ближнего! Или ты полагаешь, что Дон Кихот – вроде тех господ из Королевской академии испанского языка, которые утверждают, что проститутка – это «женщина, торгующая своим телом, предаваясь гнусному пороку похотливости»? Дело в том, что торговля – одно, а похотливость – другое. Есть среди них и такие, кто занимается своим делом не из-за денег и не из-за похоти, а ради развлечения…
– Да, из чисто спортивного интереса.
– Вот-вот, спортсменки вроде тебя. Разве не так? Ведь ты выслеживаешь парочки не из-за похоти и не ради денег?…
– Клянусь тебе, что…
– Да, вопрос для тебя в том, как поразвлечься, не компрометируя себя серьезными обязательствами. Куда веселей компрометировать других.
– Послушай, я не могу спокойно видеть девушку, которой приходится менять ухажеров лишь потому, что ни одного из них она не в состоянии удержать…
– Да ты художник, Эметерио. Ты никогда не ощущал тяги к искусству?…
– Одно время я увлекался лепкой…
– Ага, тебе нравилось мять глину…
– Не без того…
– У гончара – Божье ремесло, ведь говорят, что Бог вылепил первого человека из глины, как кувшин…
– Ну а я, Селедонио, я бы предпочел ремесло реставратора античных амфор…
– Починщика горшков? Того, кто скрепляет горшки проволочками?
– Да что ты, никоим образом, это грубое занятие… Но вообрази: ты берешь в руки амфору…
– Зови ее кувшином, Эметерио.
– Ладно, ты берешь кувшин, разбитый на черепки, и из-под твоих рук он выходит как новенький…
– Повторяю, ты настоящий художник. Ты должен открыть гончарную лавку.
– А вот скажи, Селедонио, Бог сначала, не задумываясь, выломал у Адама ребро, чтобы сделать из него Еву, а какой ее сделать, придумал уже после?
– Полагаю, что так. Конечно, он предварительно помял и погладил ее хорошенько.
– Тут уж ничего не поделаешь, Селедонио, эта профессия, которую Дон Кихот так высоко ценил, меня притягивает, и вовсе не потому, что мне хотелось бы кого-то мять и поглаживать…
– Нет, нет, с тебя достаточно поглядывать…
– Это более духовное занятие.
– Да вроде бы.
– А иной раз, когда я думаю о своем одиночестве, мне приходит в голову, что я должен был бы пойти в священники…
– Для чего?
– Чтобы исповедовать…
– Ах да! Пусть перед тобой обнажают душу?
– Помню, как-то еще мальчишкой пришел я на исповедь, а священник между двумя понюшками табаку меня допрашивает: «Только не лги, только не лги! Сколько раз, сколько раз?» Но мне нечего было обнажить перед ним, я даже не понимал, о чем он спрашивает.
– А сейчас ты бы его лучше понял?
– Слушай, Селедонио, дело в том, что сейчас…
– Что сейчас ты умираешь от скуки, да?
– Нет, хуже, во сто раз хуже…
– Само собой, живя в таком одиночестве…
– В одиночестве, полном воспоминаний о пансионате доньи Томасы…
– Вечно Росита!
– Да, вечно Росита, вечно…
И они расстались.
Во время одной из своих вылазок Эметерио встретился с женщиной, которая произвела на него глубокое впечатление. Случилось так, что, когда он вечером вошел в одно окраинное кафе, вскоре вслед за ним туда же вошла девушка с длинными ресницами и длинными ногтями – ну точь-в-точь Росита! Ногти покрыты красным лаком, брови над черными ресницами подбриты и подрисованы черным карандашом, ресницы – словно ногти на подпухших и лиловатых веках и, под стать этим векам, тоже подпухшие и лиловатые губы. «Ну и ресничищи!» – сказал себе Эметерио. И тут же вспомнил, как Селедонио – а Селедонио был человек знающий – рассказывал об одном плотоядном растении, росянке: она захватывает чем-то вроде ресниц несчастных насекомых, привлеченных ароматом ее цветов, и высасывает из них соки. Ресниценосная девица вошла, покачивая бедрами, взбаламутила своими глазами все кафе, скользнула взглядом по Эметерио и махнула ресницами лысому старичку, который уже проглотил, не разжевывая, гренок и маленькими глотками тянул свое молочко с кофейком. Затем подмигнула ему, разом закогтив его ресницами, и одновременно провела языком по припухшим губам. У старичка лысина зарделась и стала такого же цвета, как ногти у незнакомки, и, пока та облизывала свои лиловатые губы, он тоже облизывался – мысленно – именно так! – мысленно облизывался. Красотка склонила набок голову, вскочила, будто подброшенная пружиной, и вышла. А за ней, почесывая себе нос, словно пытаясь что-то скрыть, поплелся, захваченный ее ресницами, несчастный потребитель кофе с молоком. За ним потащился с жалким видом и Эметерио, твердя про себя: «Уж не прав ли он, дон Иларион?»
Шли годы, а Эметерио продолжал копить деньги и по-прежнему вел жизнь бродячей тени, существование гриба – без будущего и почти без прошлого. Ибо прошлое мало-помалу испарялось из его памяти. Он больше не встречался с Селедонио и даже избегал его, особенно с тех пор, как Селедонио женился на своей служанке.
– Что с тобой, Эметерио? – спросил его бывший друг, когда они все же случайно встретились. – Что с тобой?
– Понимаешь, старина, я не знаю. Я уже не знаю, кто я такой.
– А раньше ты это знал?
– Я не знаю даже… живу ли я…
– И ты богатеешь, как я слышал?
– Я? Богатею?
– А Росита? Как она? Ведь этот, ее Мартинес, сотворил лучшее, на что он был способен…