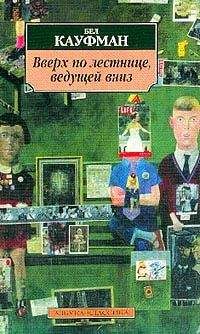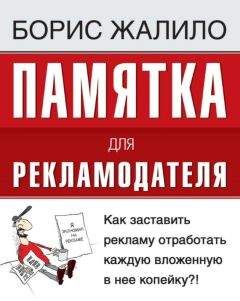Чем дальше я шел, тем рассудительней становился, я чувствовал тяжесть и усталость, еле волочил ноги. А снег все падал большими мокрыми хлопьями. Наконец я вышел на Гренланн, к самой церкви, и там присел на скамейку отдохнуть. Прохожие с удивлением смотрели на меня. Я погрузился в раздумье.
Великий боже, как я обездолен! Вся моя жалкая жизнь так постыла мне, я так бесконечно устал, что больше не стоит труда бороться, не стоит поддерживать ее. Невзгоды доконали меня, они были слишком суровы; я совершенно разбит, стал собственной жалкой тенью. Плечи мои поникли, перекосились, я ходил скрючившись, чтобы хоть немного унять боль в груди. Два дня назад, у себя дома, я осмотрел свое тело – и не мог удержать слез. Несколько недель я не менял рубашки, она вся задубела от пота и до крови натирала мне пупок; растертое место кровоточило, и хотя боли я не чувствовал, было так грустно носить на себе эту рану. Я не мог ее залечить, и сама по себе она не заживала; я промыл ее, осторожно вытер и снова надел ту же рубашку. Что ж было делать…
Я сижу на скамейке, думаю обо всем этом, и мне очень грустно. Я противен себе; даже руки мои кажутся мне омерзительными. Эти слабые, до непристойности немощные руки вызывают у меня досаду; я сержусь, глядя на свои тонкие пальцы, ненавижу свое хилое тело, содрогаюсь при мысли, что должен влачить, ощущать эту бренную оболочку. Господи, хоть бы все это скорей кончилось! Как я хочу умереть!
Совершенно растоптанный, оскверненный и униженный в собственных глазах, я безотчетно встал и пошел домой. По дороге я увидел вывеску над воротами: «Йомфру Андерсен, лучшие саваны, в подворотне направо». «Какие воспоминания!» – сказал я, и мне вспомнился мой чердак на Хаммерсборг, маленькая качалка, газетные обои вокруг двери, объявление смотрителя маяка и свежий хлеб булочника Фабиана Ольсена. Ах, в то время мне жилось куда лучше, чем теперь; однажды ночью я написал фельетон, за который мне уплатили десять крон, теперь же я больше ничего не мог написать, совсем ничего, стоило мне приняться за дело, и все мысли исчезали у меня из головы. Да, пора, кончать! Я шел, не останавливаясь.
По мере того как я подходил к мелочной лавке, мной все неотвязнее овладевало смутное ощущение опасности; но я был тверд в решении добровольно сознаться в своем поступке. Вот я преспокойно поднимаюсь по ступенькам, в дверях сталкиваюсь с маленькой девочкой, которая несет чашку, пропускаю ее и закрываю за собой дверь. Приказчик и я снова оказываемся с глазу на глаз.
– Скверная погода, не правда ли? – говорит он.
К чему эти увертки? Почему он не схватил меня сразу? Охваченный яростью, я говорю:
– Я пришел вовсе не за тем, чтобы болтать о погоде.
Моя горячность смущает его, этот ничтожный торгаш ничего не может взять в толк; ему и в голову не приходит, что я украл у него пять крон.
– Разве вы не знаете, что я обжулил вас? – с раздражением говорю я и весь дрожу, задыхаюсь, готовый заставить его действовать, если он станет еще мешкать.
Но он, бедняга, ни о чем не подозревает.
Ах ты господи, среди каких глупцов приходится жить! Я осыпаю его бранью, в подробности объясняю, как было дело, показываю ему, где я стоял и где стоял он, когда это произошло, где лежали деньги, как я их взял и зажал в кулаке, – и до него наконец доходит, но он все равно не предпринимает ничего. Он только вертит головой, прислушивается к шагам за стенкой, делает мне знаки, чтобы я говорил потише, и наконец изрекает:
– Да, вы поступили нехорошо!
– Нет, погодите! – кричу я, обуреваемый духом противоречия, стараясь вывести его из себя. – Вы жалкий торгаш, где вам понять, но я поступил не так уж подло! Не думайте, что я присвоил эти деньги, нет, я не собирался ими воспользоваться, ведь я честный человек и мне это противно…
– Что же вы с ними сделали?
– Да будет вам известно, что я отдал их бедной старухе, все, до последней монетки. Такой уж я человек, у меня сердце не каменное, я жалею бедняков…
Он задумался, у него нет уверенности в том, что я честный человек. Наконец он спрашивает:
– А отчего вы не вернули деньги?
– Да поймите же, – нагло отвечаю я. – Мне не хотелось причинять вам неприятности, я решил пощадить вас. И вот награда за благородство. Я пришел сюда и вот уже сколько времени объясняю вам, как было дело, а вы, совсем потеряв стыд, и не думаете сводить со мной счеты. Поэтому я умываю руки. И вообще, ну вас к черту. Имею честь!
Я ушел, громко хлопнув дверью.
Но когда я вернулся в свое жилище, в эту сумрачную дыру, весь вымокший от сырого снега, моя воинственность вдруг исчезла, и я опять сник. Я пожалел, что так нападал на бедного приказчика, я плакал, хватал себя за горло, дабы наказать себя за подлую выходку, и каялся. Он, конечно, насмерть перепугался за свое место и не посмел поднять шум из-за этих пяти недостающих крон. А я воспользовался его страхом, кричал на него, язвил его каждым словом. А сам хозяин, пожалуй, был за стенкой и каждую минуту мог выйти поглядеть, что случилось. Правда, мыслима ли худшая низость!
Эх, почему меня не задержали? Тогда все было бы кончено. Я сам дал бы надеть на себя кандалы. Не оказал бы ни малейшего сопротивления, – напротив, помог бы себя арестовать. Господи всемогущий, я жизнь готов отдать за единый миг счастья! Всю свою жизнь – за чечевичную похлебку! Хоть на этот раз внемли моим мольбам!..
Я лег спать в мокрой одежде; у меня была смутная мысль, что ночью я могу умереть, и, собрав последние силы, я привел в порядок свою постель, чтобы утром она выглядела прилично. Я улегся и скрестил руки на груди.
И вдруг мне вспомнилась Илаяли. Как мог я не вспоминать о ней целый вечер! В моей душе снова начинает брезжить свет, тоненький солнечный лучик, от которого мне так благостно тепло. Солнце светит все ярче, это кроткое, нежное, ласковое сияние, сладко опьяняющее меня. А потом солнце начинает жечь, опаляет мои виски, пожирает свирепым пламенем мой измученный мозг. Теперь перед глазами у меня сверкает костер, небо и земля объяты пожаром, передо мною огненные люди и звери, огненные горы, огненные дьяволы, бездна, пустыня, весь мир пылает, дымный пламень Судного дня.
Больше я ничего не видел и не слышал…
На другой день я проснулся весь в поту; меня трепала жестокая лихорадка. Поначалу я плохо понимал, что со мной случилось, с удивлением озирался, чувствуя в себе какой-то перелом, совершенно не узнавая себя. Я ощупывал свои руки и ноги, изумлялся, что окно в этой стене, а не в противоположной; со двора слышались удары лошадиных копыт, а мне казалось, будто эти звуки доносятся откуда-то сверху. И к тому же меня тошнило…
Мокрые, холодные волосы упали мне на лоб; я приподнялся на локте и посмотрел на подушку: мокрые волосы лежали и здесь мелкими клочьями. Ноги, обутые в башмаки, распухли за ночь, я с трудом мог шевелить пальцами.
Время близилось к вечеру, уже начало смеркаться, поэтому я встал с постели и принялся бродить по комнате. Я семенил осторожными шажками, чтобы не потерять равновесия и уберечься от боли в ногах. Я не очень страдал, и мне не хотелось плакать, вообще я не был печален, наоборот, я был очень радостен и уже не желал иной судьбы.
Потом я вышел из дому.
Единственное, что меня все же мучило, несмотря на отвращение к пище, был голод. Я снова начал чувствовать низменный аппетит, сосущее ощущение в животе, которое становилось все сильнее. Боль немилосердно терзала мою грудь, там шла какая-то безмолвная, странная возня. Казалось, с десяток крошечных зверьков грызли ее то с одной, то с другой стороны, потом затихали и снова принимались за дело, бесшумно вгрызались в меня, выедали целые куски…
Я не заболел, но был истощен и обливался потом. Я надеялся отдохнуть на площади, но путь туда был долог и тяжел; и все же я добрался туда, остановился на углу улицы, вливавшейся в площадь. Пот стекал мне в глаза, застилал стекла очков, слепил меня, и я остановился, чтобы вытереть лицо. Я не видел, где стоял, не думал об этом; вокруг раздавался оглушительный шум.
Вдруг слышится окрик, громкий, отрывистый: «Поберегись!» Я слышу этот окрик, я отлично слышу его и шарахаюсь в сторону, делаю быстрый шаг, насколько мне позволяют слабые ноги. Хлебный фургон, словно свирепое чудовище, проносится мимо, колесом задевает полу моей куртки; будь я немного проворнее, все кончилось бы благополучно. Я, пожалуй, мог бы быть попроворнее, чуть-чуть попроворнее, сделай я еще небольшое усилие; но теперь было уже поздно, колесо проехало по мне и отдавило на ноге пальцы; я чувствовал, что два пальца как бы перекосились.
Кучер на всем ходу осадил лошадей; он оборачивается и испуганно спрашивает, что со мной. О, могло быть гораздо хуже… Не бог весть, как страшно… не думаю, чтобы был перелом… Ах, сделайте милость…
Я как мог быстрей поплелся к скамейке; толпа, глазевшая на меня, была мне неприятна. Ведь меня же не задавило насмерть, и раз уж это было неизбежно, я отделался довольно легко. Хуже всего было то, что пострадал башмак, подошва почти совсем оторвалась, и носок походил на разинутую пасть. Я поднял ногу и увидел в этой пасти кровь. Что ж, никто из нас не виноват, кучер вовсе не хотел усугублять мое и без того скверное положение. Но я мог бы попросить его бросить мне небольшой хлебец, и он, пожалуй, не отказал бы в моей просьбе. Он охотно сделал бы мне такую услугу. Да пребудет же с ним милость господня за это!