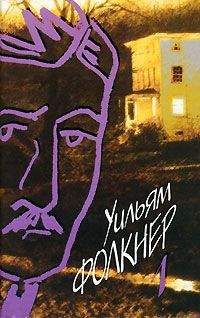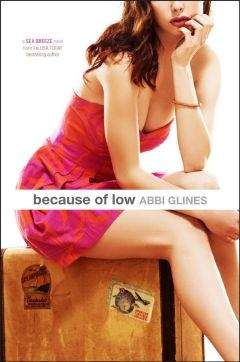Папка выскочил на улицу, говорит: «Не смей больше приходить, нечего тут дурака валять». А Дональд и внимания не обращает. Не то что нахально как-нибудь, а просто, будто мой папка вроде мухи, что ли. А папка вернулся в дом, говорит: «Не потерплю, чтоб с моей дочкой заводили шашни», – и меня ударил, а потом сам расстроился, заплакал (он выпивши был, понимаете?), а потом заставил меня побожиться, что больше я с Дональдом встречаться не буду. Пришлось дать ему слово. А я как вспомню, до чего мне с ним было весело, так сразу умереть хочется.
Долго я Дональда не видала. А потом кругом стали говорить, что он женится на этой… этой… на ней. Я знала, что Дональду до меня дела мало, ему ни до кого дела не было, но когда я услышала, что он женится на ней…
Словам, спать я по ночам почти что перестала, встану с постели, выйду на крыльцо, сижу, думаю про него, смотрю, как луна прибывает. А потом как-то ночью, когда луна стояла почти что полная и видно было, как днем, вдруг слышу: кто-то подходит к нашей калитке и останавливается. Я сразу узнала: это Дональд, и он увидел, что я тут, и говорит: «Пойди сюда, Эмми!»
И я к нему вышла. И все было, как прежде, я даже забыла, что он на ней женится, раз он меня помнил, сам пришел за мной после стольких недель. Взял меня за руку, мы пошли по дороге и ни о чем не говорили. Потом подошли к тому месту, где надо свернуть с дороги, к нашей запруде, и когда мы пролезали под изгородью, моя ночная рубашка зацепилась, а он и говорит: «Сними ее!» Я и сняла. Мы ее запрятали в кусты и побежали дальше.
Вода была такая спокойная, лунная, не скажешь, где вода, где луна. Мы поплавали немного, потам Дональд свою одежду тоже запрятал в кусты, и мы побежали на горку. И кругом было так красиво, трава под ногами такая ласковая, и вдруг Дональд побежал вперед, а я позади осталась. Я-то его всегда могу догнать, когда захочу, только в ту ночь мне бегать не хотелось, и я села на землю. Вижу, он бежит на гору, весь блестит под луной, а потом вниз побежал, к ручью.
А я легла на землю. Лежу, ничего не вижу, только небо. Не знаю, сколько я так пролежала, только вдруг надо мной, на небе, – его голова. Смотрю, он опять весь мокрый, и лунный свет бежит по его мокрым плечам, по рукам, а он все смотрит на меня. Глаз я его не вижу, только чувствую, будто они меня трогают. Бывало, он на тебя посмотрит, и ты словно птицей становишься: вот-вот взлетишь высоко над землей. Слышу, как он задыхается от бега, чувствую: у меня внутри тоже что-то задыхается. И боязно мне и не боязно. Будто все на свете умерло, только мы остались. И тут он говорит: «Эмми! Эмми!» И голос у него какой-то такой… А потом… А потом…
– А потом он тебя обнял…
Эмми вдруг отвернулась, и гостья крепко прижала ее к себе.
– А теперь он и не узнает меня, и не узнает! – простонала Эмми.
Миссис Пауэрс обняла ее еще крепче, и наконец Эмми подняла голову, отвела волосы с лица.
– А потом? – подсказала миссис Пауэрс.
– А после мы лежали рядом, обнявшись, и мне было так хорошо, так спокойно, и подошли коровы, посмотрели на нас и отошли. И я чувствовала, как его рука медленно так гладит меня по плечу, вниз, вниз, а потом опять вверх, медленно-медленно. И мы ничего не говорили, только его рука все гладит меня, гладит, так тихонько, спокойно. И тут я заснула.
Просыпаюсь – уже рассвело. А я лежу скорчившись: холодно, сыро, а его нет. Но я знала: он непременно вернется. И вернулся – принес черники. Мы поели, посмотрели, как на востоке светлеет. А когда мы съели все ягоды, я опять чувствую: трава подо мной мокрая, холодная, а над его головой – небо желтое, зябкое.
Потом мы вернулись к запруде, он оделся, вытащили мы мою ночную рубашку, я ее тоже надела. Уже совсем посветлело, и он хотел идти со мной до самого моего дома, но я не позволила: мне было все равно, что со мной случится. Вошла я в калитку – а отец стоит на крыльце… – Она замолчала. Видно, рассказ пришел к концу. Она дышала ровно, как ребенок, прильнув к плечу гостьи.
– Что же дальше, Эмми? – спросила та.
– Ну подошла я к крыльцу и остановилась, а он говорит: «Ты где была?» А я говорю: «Не твое дело!». А он говорит: «Ах ты, шлюха, я тебя до смерти изобью!» А я говорю: «Попробуй, тронь!» Но он меня не тронул. Дотронься он только до меня, я бы, наверно, его убила. Он пошел в дом, и я пошла, оделась, связала вещи в узелок и ушла. Так с тех пор и не возвращалась.
– Что же ты делала?
– Нашла место у портнихи, у миссис Миллер. Она мне и спать позволила в мастерской, пока денег не заработаю. Но я там и трех дней не пробыла, как вдруг пришел сам мистер Мэгон. Говорит: Дональд ему все про нас рассказал, и Дональд ушел на войну, а он пришел за мной. С тех пор я у него и живу. Дональда я больше так и не видела, а теперь он меня не узнает.
– Бедная девочка! – сказала миссис Пауэрс. Она подняла голову Эмми: у той лицо было спокойное, просветленное. Гостья уже не чувствовала своего превосходства над девушкой. Вдруг Эмми вскочила на ноги, схватила чиненую одежду. – Погоди, Эмми! – сказала гостья, но Эмми уже убежала.
Миссис Пауэрс закурила сигарету и медленно затянулась, разглядывая большую, сумрачную комнату с разнокалиберной мебелью. Потом встала, чтобы задернуть занавески. Дождь перестал, длинные копья солнца, пронзая безукоризненно промытый воздух, высекали искры из мокрых деревьев.
Она потушила сигарету и, спускаясь по лестнице, увидела чужую удалявшуюся спину, и ректор, обернувшись от двери, сказал, глядя на нее безнадежными глазами.
– Он не очень надеется, что зрение вернется к Дональду.
– Но ведь он только домашний врач. Мы выпишем специалиста-глазника из Атланты. – Она ободряюще тронула его рукав.
И тут появилась мисс Сесили Сондерс, деликатно стуча каблучками по быстро сохнущей дорожке, меж свежеобрызганной травы.
Сесили сидела у себя в комнате, в светлых шелковых трусиках и тоненьком оранжевом свитере, и, положив стройные ноги на другое кресло, читала книгу. Отец, не постучав, открыл двери и с немой укоризной посмотрел на дочь. Она молча встретила его взгляд, потом спустила ноги.
– Разве порядочные девушки сидят в таком виде, полураздетые? – холодно спросил он.
Она положила книгу, встала.
– А может быть, я вовсе не порядочная девушка, – небрежно бросила она.
Он смотрел, как она заворачивает свое тоненькое тело в легкий, полупрозрачный халатик.
– Наверно, тебе кажется, что так лучше?
– Знаешь, папочка, тогда не входи ко мне, не постучавшись, – капризно сказала она.
– И не буду, если ты всегда сидишь в таком виде. – Он чувствовал, что сам создает неблагоприятную атмосферу, и ему трудно будет сказать то, что нужно, но уже не мог остановиться. – Ты представляешь себе, что вдруг твоя мама будет сидеть у себя в комнате полураздетая, как ты?
– Не думала об этом. – Она облокотилась на каминную доску и вежливо, но воинственно добавила: – Но если ей захочется – пускай сидит.
Он опустился в кресло.
– Мне надо поговорить с тобой, Си. – Голос у него стал другим, и девушка уселась на кровать, поджав ноги, и неприязненно посмотрела на него. «Какой я облом», – подумал он, откашливаясь. – Я – про молодого Мэгона. – (Она посмотрела на отца). – Я видел его сегодня утром.
Она не поддержала разговора. «Вот черт, удивительная способность у детей затруднять родительские увещевания. Даже Боб научился этим штукам».
Глаза у Сесили стали зелеными, бездонными. Протянув руку, она взяла со столика пилку для ногтей. Ливень прекратился, дождь только шепотком шуршал в мокрых листьях. Сесили наклонила голову над ритмичными ловкими движениями тонких пальцев.
– Ты слышишь: я видел утром молодого Мэгона, – повторил отец с нарастающим раздражением.
– Видел? А как он выглядел, папочка?
Голос у нее был такой мягкий, такой невинный, что он с облегчением вздохнул. Он пристально посмотрел на нее, но она мило и скромно опустила головку, и он видел только ее волосы, пронизанные теплым рыжеватым светом, ровную гладкость щеки и мягкий невыразительный подбородок.
– Мальчик в очень плохом состоянии, Си.
– Бедный его отец, – сочувственно сказала она, быстро водя пилкой. – Ему очень тяжело, правда?
– Отец ничего не знает.
Она вздернула голову, глаза посерели, потемнели еще сильнее. Он понял, что и она ничего не знает.
– Не знает? – повторила она. – Но он же видит этот шрам? – Она вдруг побелела и подняла руку к груди. – А разве…
– Нет, нет, – заторопился он. – Просто его отец думает, что он… Отец не… то есть отец забыл, как его утомило путешествие. Понимаешь? – Он запнулся, потом быстро докончил: – Об этом я и хотел с тобой поговорить.
– О нашем обручении? Но как же я могу? Этот шрам!.. Как я могу?
– Да нет же, какое тут обручение, раз ты не хочешь. Сейчас мы и думать не станем про обручение. Ты только навещай его, пока он не поправится.
– Нет, папочка, не могу. Просто не могу.