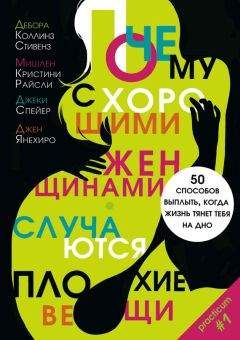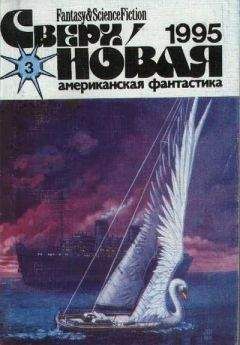я ему.
«С какого-такого подстроил ты, чтоб меня из рая вытурили?» — спросил он.
…! Ну, господин хороший, этот вопрос волнует всякого — и меня тоже. В толк не мог я взять, что ему ответить. «Батюшки светы!» — молвил я и еще раз чихнул кровью.
Но парнишка тот сбрендивший был.
«Кабы мог я вымарать тебя со свету, никак себе не навредив, я б сокрушил тебя сей же смертный миг», — сказал он.
«Ради любви небесной, — сказал я, — втолкуй мне, что я тебе сделал, бо до сего дня не видел я тебя отродясь — а лучше б и сейчас не видел».
Круглоглавый стоял себе рядом все то время да жевал табак.
«Задай ему, Кухулин, — произнес он. — Убей его, — сказал, — и отправь к привиденьям».
Но второй чуть поутих и подошел ко мне, помахивая девичьей юбкой.
«Слушай! — сказал. — Я серафим Кухулин».
«Очень славно», — сказал я.
«Я твой Ангел-Хранитель», — сказал он.
«Очень славно», — сказал я.
«Я твоя Высшая Самость, — сказал он, — и всякое гнусное дельце, какое ты вытворяешь, там, наверху, меня сотрясает. Ничего в жизни своей не сделал ты такого, что паскудным бы не было. Ты скареда и вор, из-за тебя меня вышвырнули с небес — за то, как крепко ты любишь деньги. Ты совратил меня, когда я отвлекся. Сделал из меня вора там, где быть вором — никакой потехи, и вот уж я скитаюсь по мерзкому миру неблагими путями твоими. Покайся, тварь», — сказал он и отвесил мне оплеуху, от какой прокатился я из одного угла амбара в другой.
«Влепи ему еще», — сказал круглоглавый, рьяно жуя свою плитку.
«А ты здесь при чем? — спросил я его. — Ты не Ангел-Хранитель мне, Господи помоги!»
«Как смеешь ты! — воскликнул круглоглавый. — Как смеешь настраивать вот эту честную особу воровать у бедняка последние три пенса?» — И с этими словами выдал мне плюху.
«Ты это про какие три пенса толкуешь?» — спросил я.
«Про мои три пенса, — ответил он. — Единственные мои. Те, что выронил я у адских врат».
«Да ни сном ни духом я! Нет мне дела больше до того, что ты мелешь, — отозвался я, — болтай хоть до посинения, а мне дела нет». С тем сел я на конуру и лил себе кровь дальше.
«Должен ты покаяться по доброй своей воле», — произнес Кухулин и направился к двери.
«Да побыстрей к тому ж, — молвил второй, — иначе я тебе башку снесу».
Странное дело в том, что я поверил каждому сказанному слову. Не понимал, о чем он толкует, но знал, что толкует он о чем-то доподлинном, хоть мне и невнятном. А еще было что-то в том, как он это говорил, бо произносил все, как епископ — выраженьями точными, громкими, какие уже я и не помню, раз столько месяцев прошло. Как бы то ни было, поверил я ему на слово и в тот же миг почуял, как поменялось во мне существо, бо, скажу я вам, никто не в силах переть против своего Ангела-Хранителя — это все равно что лезть на дерево задом наперед.
И вот направились они вон из амбара, а Кухулин тут повернулся ко мне.
«Помогу тебе с покаянием, — молвил он, — ибо желаю вернуться, и вот как я тебе помогу. Дам тебе денег — причем целые горы их».
Тут парочка та ушла, а я из амбара еще полчаса не высовывался.
* * *
Назавтра отправился я в амбар, и что, как думаешь, там увидел?
— Пол был усыпан золотыми монетами, — предположил Патси.
Билли кивнул.
— Это-то и увидел. Собрал их и спрятал под конурой. Не хватило там места, а потому я смёл их все и зарыл в капусту. На следующий день, и дальше, и еще дальше — то же самое. Не понимал я, куда прятать деньги. Пришлось оставить валяться на полу, и даже ледащей собаки не осталось, чтоб сторожить их от воров.
— Некому-некому, — произнес Патси, — сущая правда.
— Запер я амбар, а затем призвал людей. Выдал им их заработок, бо на что они мне дальше, коли я катаюсь в золоте? Велел им убираться с глаз моих долой и всех и каждого со своей земли спровадил. Затем сказал шурину, что он мне в моем доме без надобности, спровадил и его. Следом выжил сына из дома ссорою, да и жене сказал, чтоб шла с сыном, если пожелает, а сам затем отправился в амбар.
Но, как уже говорил минуту назад, стал я другим человеком. Золото громоздилось вокруг, а я не понимал, что с ним делать. Мог бы валяться в нем, если б охота была, — и повалялся, но потехи в том не было.
Вот в чем у меня беда: пересчитать я его не мог, оно пересилило меня — его были груды, горы его были, на четыре фута ввысь по всему полу, и в сторону его сдвинуть — все равно что дом целый.
Никогда не желал стольких денег, бо никто не хотел бы их столько, — хотел я таких денег, с какими можно управиться вручную, а страх воров обуревал меня так, что не мог я ни сидеть, ни стоять, ни спать.
Всякий раз, когда открывал я ворота в амбар, он оказывался полнее прежнего, и наконец я его возненавидел. На дух не выносил даже смотреть на него, на сверканье тысяч и тысяч золотых краешков.
И меня это доконало. Однажды вошел я в дом, взял концертину, моим сыном купленную (я и сам умел хорошо на ней играть), и сказал жене:
«Я пошел».
«Это куда же?»
«По белу свету».
«А как же хозяйство?»
«Оставь себе», — ответил я и с теми словами выбрался из дома и прочь на дорогу. Шел без передышки два дня и с тех пор не возвращался.
И впрямь играю на концертине перед домами, и люди жалуют меня медяками. Странствую с места на место каждый день и счастлив, как птичка на ветке, бо нет мне тревог и сам никого не тревожу.
— А что с деньгами сталось? — спросил Патси.
— Сдается мне теперь, что было то дивное [21] золото, а коли так, никто к нему притронуться не мог.
— Вот, значит, — сказал Мак Канн, — какого сорта были те ребятки?
— Такого вот сорта и были.
— И один из них — твой Ангел-Хранитель!
— Так он сказал.
— А второй кто же?
— Не ведаю, но, думаю, был он привиденьем.
Патси обратился к Финану:
— Скажи-ка мне, мистер, правдивая ли это