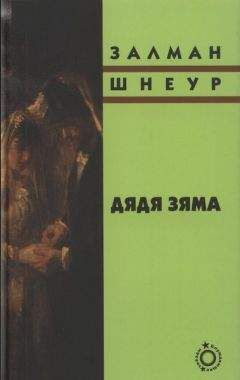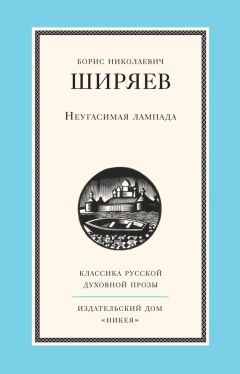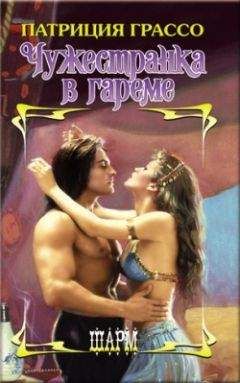Мендл, ее муж, явно не понимает, что она имеет в виду. Тем не менее он поддерживает ее интригующими ужимками и речами:
— Нечто, говорю тебе, Ури… весьма, весьма… в общем, нечто в весьма особенном роде…
Этка выбегает из комнаты и вскоре вбегает обратно с синим полумиском, полным странных четырехугольных кусочков, коричневатых и полупрозрачных. Шкварки — не шкварки, холодец — не холодец. Ури заинтригован.
— Это что за райская птица? — удивляется он и пробует вилкой. — С ума сойти! Ке-зейре гад…[116] Прямо коляндра[117] какая-то, прости господи!.. Короче, Этка, что это?
Этка и Мендл тают от удовольствия. Вот как? Он не знает… Ха-ха. Если так, пусть тогда попробует.
Ури уже со всей серьезностью втыкает свою вилку в кушанье и подносит ко рту сочный, пропеченный четырехугольный кусочек. Жар странной закуски обжигает его. Он осторожно дует, откусывает кусочек и медленно, вдумчиво жует. Жуя и прислушиваясь к вкусовым ощущениям, чтобы понять, что это такое, он негромко обращается к своей сестре:
— Слышь, уф-уф, Этка… А чего это оно такое «холодное»?
Этка от смеха чуть живот не надорвала. Ха-ха-ха да хи-хи-хи. Вот как? «Холодное»? Да уж, и правда «холодное»… вот уж сморозил!.. Он еще не понял, что это такое? Раз так, он должен-таки попробовать еще кусочек. Вот этот кусочек. О! Только этот — и все!
— Недурно! — произносит Ури и героически глотает. — Важная еда, — икает он. — Короче, Этка, не мучь меня, открой секрет. Готов поклясться, что это, кажется, так сказать, это…
— Вымя… — подхватывает Этка, — тушеное коровье вымя.
— Ах вот оно что! — снова икает Ури. — Весьма, весьма!
— Вы же знаете, сколько с ним возни! — похваляется Мендл мастерством своей жены. — Чтобы оно перестало быть мясомолочным[118], требуется, во-первых, пропечь его целиком на ухвате над сильным огнем, чтобы молоко с него стекло. Потом его сперва нарезают на квадратики и ставят преть в печь на… сутки, с луком и с петрушкой, с чесноком и с… с морковкой…
— Тихо ты, куда торопишься! — перебивает его Этка. — Что за морковка? Как сюда попала морковка?
От такой аппетитной беседы, в которой каждое обсуждаемое блюдо полно намеков и толкований, Файвка совсем теряет голову. Он не столь жаден до еды, сколь ужасно любопытен. Ему страх как хочется попробовать кусочек тушеного вымени.
Он не может дождаться, когда говорливая тетя Этка закончит свой рецепт и угостит племянников. И пока все заняты вкусными разговорами, он сам протягивает свою вилочку, накалывает четырехугольный толстый кусочек и отправляет его, недолго думая, прямо в рот.
О том, что это блюдо — холодное, он только что слышал от папы и понял из смеха тети Этки. Караул, беда! Вместо приятного холодка, вместо того вкуса, о котором папа говорит «весьма», он чувствует, что эта еда ужасно обжигает нёбо и огнем горит на языке. Файвка выплевывает ее, как расплавленный свинец, и, теряя от боли всякий стыд, ревет во все горло:
— У-у-у, ой, ма-ма!
Все бросаются к нему до смерти перепуганные: «А? Файвка? Что такое? Что с тобой?..»
Из клубка людей сперва доносится гул голосов и плач, один вопрос заглушает другой, потом — общий смех и «тьфу». Все утешают Файвку и смеются. Все жалеют и стыдят его одновременно: «Задыхаешься? Нет? Обжегся? Чем? Ха-ха! Тьфу, чтоб тебя! Чего хватаешь? Больно? Кто тебя заставлял хватать? Вымя держит жар. Мальчик не должен хватать, мальчик, который ходит в хедер, должен научиться ждать… Хе-хе, уж оно такое, это вымя… Совершенно правильно!.. Ладно, до свадьбы заживет…»
Ури видит, что ничего страшного не случилось: Файвка обжег язык, и только… Он пользуется суматохой, садится обратно на свое место и начинает спешно тарабанить «длинное благословение». Сперва тихо, а чем дальше, тем громче и выразительнее: «Ай-ай-ай… в-ал тнувас а-соде в-ал эрец хемдо тейво у-рхово[119] (И за урожай полей, и за землю желанную, прекрасную и просторную)… ай-ай!..»
Он тарабанит благословение, а в душе радуется, что надул Этку. Одним стратегическим ходом остановил войска новых закусок, которые сестра замышляла еще послать на него.
Заслышав триумфальные нотки в Урином «длинном благословении», Этка отрывается от своего незадачливого племянничка и бросается к брату. Она хочет удержать его, хочет разгромить его наступление.
— Что такое, Ури, Бог с тобой! У нас еще будет холодный кугл, у нас еще будут яблочные оладьи…
Но Ури в ответ очень благочестиво пучит глаза и трубит:
— Ну, о… в-ал мизбехехо в-ал хейхолехо… тсс-сс… у-вней ерушалаим up а-кейдеш… (над жертвенником Твоим, и над храмом Твоим! И восстанови Иерусалим). О… Ну!
То есть: поздно, дело сделано, надо было раньше говорить. Она же сама видит!.. Он уже в самой середине:
— Ай-ай… ве-самхейну бевиньёно… у-неворехехо олехо… (И возвесели нас при восстановлении его… И будем мы благословлять Тебя.)
Тетя Этка начинает сердиться на своего дорогого племянничка, который своим хап-лап расстроил все ее планы, дал Ури так обдурить ее. Она забывает о том, что минуту назад сюсюкала над Файвкой, и срывается на него:
— Что ты расхватался? Мальчик должен ждать, мальчик…
Файвка грустно облизывает обожженное нёбо и удивленно смотрит на тетю Этку. Бог ты мой! Куда это вдруг подевалась вся ее доброта?..
И не находит объяснения.
С последними звуками завершающего трапезу благословения Ури становится чуть легче на душе оттого, что он так искусно перехитрил Этку с ее чертовыми горячими горшочками. Однако несварение желудка от столь обильных угощений распирает ему живот ниже брючного ремня. Он тоже начинает придираться к Файвке:
— Ну, разве можно хватать горячее?.. На тебе… Небось теперь сам понял!
При этом он не столько воспитывает Файвку, сколько хочет загладить свою вину перед обиженной тетей Эткой, подольститься к ней, показать, что она права, что ее гнев на племянника-лакомку — справедлив. Но Файвка-чертенок не понимает таких тонкостей и ухищрений. Он сидит, скорчившись от боли и обливаясь холодным потом. Он чувствует жгучую обиду на отца и на его икающие нравоучения. Сперва этот человек соблазнил его своей шуточкой насчет «холодного» вымени, и Файвка так ужасно обжегся, а теперь еще сыплет соль на раны. От обиды он обращается не к дяде Ури, а к тете Фейге:
— Раз папа сказал, что это холодное, папа…
Это и ответ, и жалоба… Тетя Фейга, которая уже до смерти устала от угощений, кивает пучком цветов на шляпке и берет мальчика, который учит Пятикнижие, под свою материнскую защиту:
— Вот что выходит, когда подшучивают над детьми…
Ури встает и в сердцах накидывает пальто как плащ. Он взбешен. Мало того, что его сыновья не облегчили ему застольные труды, они их еще и усугубили. И он говорит жене:
— Знаешь, что я тебе скажу, Фейга? Лучше было бы оставить это твое «сокровище» дома.
Тетя Фейга дуется и хочет ответить, что это вовсе не она, а он, Ури, потащил детей к своей сестре… Да. Он, он… А теперь еще цепляется…
Тут, однако, торжественно открывается деревянная дверь второго флигеля, и на пороге между комнатами появляются младшая сестра Ури, Марьяшка-короткая со своим мужем Генехом.
— С праздником, Ури! С праздником, невестка!
Вот так радость.
3. У тети Марьяшки
За Марьяшкиными низкими плечами и коротенькой головой Ури различает в следующей комнате знакомую картину. Тоже мне новость! Круглый поднос со сладкими угощениями и тяжелыми бутылками посередине. Начинается третий акт угощения.
К Марьяшке семейство Ури идет не в духе. Во-первых, Марьяшка — младшая, да еще и «короткая» в придачу. Во-вторых, Ури и его брат Зяма выделили ей ее приданое, так что она может не строить из себя невесть что… В-третьих, Ури сердится на свою жену Фейгу из-за того, как она воспитывает детей, а Фейга сердится на него. У Файвки болит язык, а младший и старший, тот, который уже учит Гемору, просто подавлены общим дурным настроением.
Развязнее, чем к другим сестрам, входит Ури в жилище Марьяшки и сбрасывает свой «плащ» с решительным видом человека, который не собирается церемониться. Глядя с нескрываемой ненавистью на поднос с закусками, он ясно дает понять Марьяшке: она может сердиться сколько ее душе угодно, но никаких тейглех, никакого имбирного печенья и никакой другой сладкой дребедени он есть не будет, и кончено, и точка…
— Кто же это в силах съесть столько сластей? — поддерживает Ури его благоверная и качает прической.
Марьяшка-короткая выходит из себя: «Как же так? Ни за что ни про что! За что ж такое унижение?» Ее голос дрожит.
Ури становится жаль бедную сестру, и он предлагает компромисс:
— Ладно, чего уж там… Благословение, огурчик, то, сё…